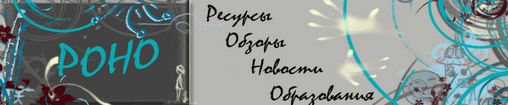
Общедоступный информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного, коррекционного и дополнительного образования. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-27423 от 07 марта 2007г.
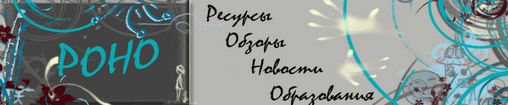
Общедоступный информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного, коррекционного и дополнительного образования. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-27423 от 07 марта 2007г.
|
Поиск по сайту
|
Радости и труды детей-василеостровцев в блокадные дни
Татьяне Ивановне Голотиной, учителю начальных классов, погибшей 27 января 1942 года в блокадном Ленинграде посвящаю
Мемуарная литература (от лат. memoria память) - разновидность документальной литературы. Есть «память внешняя, безотчетное знание наизусть затверженного» и - внутренняя: «усвоение себе навсегда духовных и нравственных истин»[1]. Мемуары авторов, чье детство пришлось на военные годы 1941-1945 годов, - воспоминания, запечатленные в детской восприимчивой душе. Приставка вос- указывает на некую высоту, с которой очевидец-мемуарист описывает события. Из возрастной психологии известно, что в подростковом возрасте у школьника особенно велика потребность в обретении живого примера, образца, авторитета, которому хотелось бы следовать. Образ героя-победителя как в художественной, так и мемуарной литературе предполагает образец мысли, слова, поступка. Современное увлечение детей разного рода виртуальными играми в «суперменов» - это утоление жажды по реальному героическому. Обращение учителя к воспоминаниям настоящих героев, живущих рядом с нами и часто незамеченных, скромных позволяет помочь детям осознать – кто, действительно, заслуживает их деятельного внимания. В каждой исторической эпохе есть свой идеал героя. В войне 1812 года таким примером являлась личность М.И.Кутузова. Памятник Кутузову[2], установленный напротив Казанского собора, по свидетельству очевидцев, – один из немногих - не был укрыт или вывезен на сохранение в годы блокады. Мимо него шли ополченцы прямо на передовую. Всем хорошо известен и образ победителя, который вот уже почти два тысячелетия восходит к всемирно известному образцу мужественности, стойкости и справедливой силы, запечатленной на иконе (от «эйкон» - образец) «Чудо Георгия о змие». Святой Георгий – воин и землепашец. На древних иконах Новгородской и Московской иконописных школ копье воина метко поражает дракона в голову - торжество сил добра и света над силами зла и тьмы. Взгляд всадника спокоен, устремлен к небесам – оттуда исходит высшее благословение: «Дерзай, чадо!». Всадник с копьем и ныне изображен на гербе нашего отечества, символизируя его мощь и приверженность делам добра. Причина победы в войне 1941-1945 годов, как и в предшествующих, известных нам войнах, - вера в победу и мир в душе - несомненное убеждение в правоте, которое давало силы бойцам для преодоления естественного страха физической смерти. Много ли мы знаем о блокадных буднях и сегодняшней судьбе ленинградцев, из которых, по недавним статистическим данным, около 41 тысяч человек - награждены медалью «За оборону Ленинграда», и почти 170 тысяч удостоены знака «Жителю блокадного Ленинграда»[3]? «Парадокс, но сегодня мало желающих заниматься блокадой, – сообщено в газете «АиФ». «Организации и специалисты, изучающие этот период истории, скорее соперничают, чем помогают друг другу», - говорит доцент Европейского университета Никита Ломагин».[4] И потому, чтобы не «порвалась связь времен», следует содействовать, чтобы сохранены были дневники и записки очевидцев - порой скупо-документальные, порой - художественно-образные, лирические. Свидетельства той поры разнообразны: у каждого ленинградца свой жизненный опыт, характер, но в большинстве своем они схожи, поскольку их отличительная черта – сила духа авторов. «Блокада – это нравственный раздел, - вспоминает учительница Вера Рогова. – В городе, например, не было денег. Мы не получали ни копейки. Работали, сколько хватало сил, а, чуть передохнув, шли в госпиталь выхаживать раненых, дежурили на крышах и во дворах. Все безвозмездно»[5]. Об этом странно слышать сегодняшним школьникам… Ленинградская блокада стала одной из трагических и подвижнических страниц в истории Великой Отечественной войны. Однако в последнее время появляются публикации, авторы которых ставят под сомнение необходимость противостояния фашистам. Урок, посвященный событиям военных лет, поможет сегодня донести до учеников правду о событиях того времени, об истинных ценностях, не измеряемых в материальных эквивалентах. В блокадном городе работали школы[6] и библиотеки, концертные залы, работали кинотеатры[7], а в храмах совершалась Божественная Литургия. Все жители блокадного города с благодарностью вспоминают труд работников ленинградского радио. Мемуары – живые свидетельства того времени, в том числе - дневники, один из которых волею судьбы стал символом блокадного города, обвинительным документом на Нюрнбергском процессе – дневник Тани Савичевой[8]. «Во время блокады дневники вели многие. А в некоторых блокадники по свежим следам записывали то, что пережили», - свидетельствуют авторы «Блокадной книги» А.М. Адамович и Д.А.Гранин.[9] Знаменитая книга Ольги Берггольц «Говорит Ленинград»[10] - тоже своеобразный дневник – сборник текстов радиопередач и комментариев к ним. Предваряя книгу, автор пишет: «…Ночь – десятого января сорок второго года – была для меня… одной из самых счастливых и вдохновенных ночей в жизни. …Мы неожиданно для себя, впервые с начала войны, оглянулись на путь, пройденный городом, его людьми, его искусством, и изумились этому страшному и блистательному пути, и через это почти физически ощутили то хорошее, естественное, простое человеческое существование, которое именуется «победой»…». Действительно: победил не «голод», а - «город», за которым стоят судьбы конкретных людей. Читая эти строки, мы понимаем: победа – это не только всеобщее ликование доживших до нее[11], но и все время «существования» - всеобщее подвижничество. Современным школьникам трудно представить условия, в которых оказались их сверстники немногим более полувека назад. Но этот опыт, чужими страданиями обретенный, – та мера, та высота, с которой может соотнести, сверить свою жизнь, свои интересы современный подросток. Герой-сверстник особенно близок юному читателю. При подготовке урока памяти, посвященного блокадным дням, перед учителем встает вопрос: как в условиях сегодняшней сытой и мирной жизни донести до школьников представление о тех суровых днях? Урок памяти «Братья и сестры» Основное задание школьникам к уроку: узнать имена и судьбы своих родственников: на каких фронтах сражались? Какие награды имеют? Остались ли документы, фотографии, письма? Это задание должно быть предложено с большим запасом времени, поскольку предполагает длительную работу с последующим обобщением. Второе задание: подготовить рассказ о запомнившемся произведении мемуарной литературы. (Например: Н.Г. Горбачева-Глазер «Повесть о блокадной девочке»[12], сборник рассказов «Испытание»,[13] подборка воспоминаний детей-василеостровцев «Братья и сестры»[14]). Цели урока: достичь осознания учениками сопричастности судьбе своей страны, укорененности в истории рода, отечества; укрепить в представлении о значимости таких нравственных категорий как вера, надежда, любовь. Задачи урока: способствовать развитию эстетического вкуса, культурных навыков, внимания к слову. Примечание. Какими рассказами, какими впечатлениями будет наполнено содержание урока, зависит от возможностей конкретной школы, класса, учителя. Рассказ ветеранов оставит в сердцах детей впечатление на всю последующую жизнь. Так на одном из наших общешкольных уроков в царскосельской школе «Гуманитарий» (г. Пушкин), посвященном судьбам детей-блокадников, всем запомнился рассказ бабушки одного из учеников о том, как выживали оставшиеся сиротами 7-летний мальчик и она - его трехлетняя сестра. Родители погибли в пригороде Пушкина, осталась коза, но и ее забрали фашисты. Когда козу привязывали на выпасе, брат, вооружившись котелком, осторожно подползал к ней и доил. Все молоко отдавал трехлетней сестренке, ожидавшей его неподалеку. Однажды он был замечен и схвачен. Сестра из своего укрытия видела, как его держали вниз головой над костром, пока не погиб, но сестру не выдал. Бабушка нашего ученика рассказывала о своем брате спокойно, без слез. Рассказ прозвучал в звенящей тишине. Никакие спецэффекты никогда не заменят живого человеческого голоса… Как начать урок? Важно, чтобы не было ни фальши, ни ложного пафоса. Мы начинали этот урок с поименного поминовения всех родственников собравшихся учащихся и учителей. А завершали - также поименным упоминанием ныне здравствующих родственников – участников Великой Отечественной войны и желали им долголетия - «многая и благая лета».
Ход урока Слово учителя: «Братья и сестры…» - эти слова обращения к народу с известием о нападении фашистской Германии на нашу страну были самыми точными, самыми правильными. Братья и сестры по крови, братья и сестры по духу встали на защиту отечества. Авторов воспоминаний, к которым мы сегодня обратимся, объединяет одна колыбель – Ленинград, Васильевский остров, где жили они перед войной, в блокаду, большинство из них учились в 21 школе Василеостровского района. Год рождения почти всех авторов-«детей» – 1932, география проживания: от Тучкова переулка до 6-ой линии. Все они не считают себя героями. Многие ежедневно – что следует из их воспоминаний - читали произведения классической художественной литературы, таким образом, жили кругом интересов, выходящих за пределы военного времени и пространства, ограниченного военными действиями. Во время войны они жили с миром в душе. Давайте всмотримся в лица авторов этих статей, их родителей… Как они красивы! И красота эта внутренняя светится в их взглядах и на детских снимках, и на современных – 2000 годов. Их взгляд обращен к нам. Слово – ученикам[15] О бесстрашии: О бесстрашии ленинградцев вспоминает Инна Викторовна Твелькмейер (в 1941 году ей было 9 лет): «Осенью начались бомбежки. Сперва ходили в бомбоубежище в подвале здания бывшей Академии наук на I – ой линии Васильевского острова (мы жили напротив), но потом, когда жители убедились, что бомбы пробивают все перекрытия до самого подвала, ходить перестали. Только спали, не раздеваясь (да и теплее было). Как ни странно, я бомбежек не боялась, мне казалось, что бомба в нас не попадет, и так и случилось. Бомбы и снаряды падали кругом, но мы остались целы. Первая бомба в тонну весом упала во дворе нашего дома на Съездовской (теперь опять Кадетской линии, рядом с церковью Святой Екатерины, где помещался военный завод). Мой отец как раз дежурил у парадной – слышит свист и думает: все, конец, - но ничего не случилось». Виктору Андреевичу Лушину зимой 1941 года было 9 лет: «…Чтобы спасти меня от неизбежной смерти, брат Николай, который воевал на Ленинградском рубеже, решил увезти меня на фронт — так я стал воспитанником миномётной батареи 330 стрелкового полка 86-ой стрелковой дивизии. Командиром батареи был старший лейтенант Александр Иванович Бусыгин, которому в то время было 25 лет. Большая часть личного состава были намного старше его. Но благодаря своим командирским и человеческим качествам, Александр Иванович пользовался большим авторитетом и даже любовью - все звали его Батей. Батарея вела тяжёлые бои на Синявинских болотах под г. Мгой и готовилась к боям по прорыву блокады. Ко мне на батарее относились очень хорошо, подкармливали все, как могли, даже сшили военную форму, а один из офицеров подарил маленький, но настоящий пистолет с мешочком патронов». Однажды военный патруль задержал «сына полка» с оружием в городе, не поверив, что оно может быть вручено 9-летнему ребенку. Спасло заступничество командира – Бати. Дети, оставаясь детьми, осознавали себя в то же время защитниками отечества. Вячеслав Васильевич Фокин вспоминает себя в пятилетнем возрасте: «Во время войны мы жили у бабушки в деревне в двух километрах от станции Волга, неподалеку от Рыбинска. Около станции был мост через Волгу и военная база боеприпасов. Мост имел стратегическое значение, и немцы пытались уничтожить его. Однажды летом наши подбили самолет-разведчик. Он полетел от моста на небольшой высоте и задымил над нашей деревней. Мы (группа мальчишек 4-7 лет) закричали: «Ура!», схватили палки и побежали следом за самолетом: брать в плен гада-гитлеровца. Но нам не повезло: по дороге нас обогнал грузовик-полуторка с вооруженными солдатами с базы. Но не повезло и солдатам: самолет улетел очень далеко, куда машине было не проехать из-за леса, ручьев и болот». О братской помощи: Вспоминает Вячеслав Васильевич Фокин, в 1941 ему было всего три года: «Я помню голод. Мы сидим за столом, а мама режет хлеб ножом. Мы – три брата – внимательно следим за ножом. Хлеб липкий и тонким слоем покрывает лезвие ножа. Мама берет другой нож и счищает им этот слой, а потом спрашивает: чья очередь? Очередник-счастливчик получает этот срезанный слой. Нас – три брата. Валентин – старший - родился 30 сентября 1932 года». И старший брат – хоть ему всего и 9 лет - как старший – делится с младшим, по-отцовски опекает Вячеслава: «По характеру Валентин близок к отцу. Меня Валя любил и опекал, очень обо мне заботился. Иногда хлебные срезки он отдавал мне». Вспоминает средний брат – Виктор Васильевич Фокин (в 1941 ему 6 лет): «Мой старший брат Валентин продолжил учиться в сельской школе. Летом 42 г. школьников просили помочь в прополке совхозных посевов. С братом пошел и я (мне не было и 7 лет). Работали примерно с 9 до 15, затем нас привели в столовую и каждому выдали обед: очень жидкий овощной суп и немного вареной картошки со следами растительного масла и долькой свежего огурца. Хлеба не было. С огромной гордостью мы несли эту еду домой, где нас ждал младший брат. Мы были страшно голодными, но все приносили домой. Такое счастье продолжалось всего несколько дней. Но запомнилось – ведь это была еда!» О взаимопомощи детей и взрослых: Из многочисленных воспоминаний ясно: вопреки инстинкту физического самосохранения для победителей очевидна в первую очередь – естественная, как дыхание, забота о сохранении жизни ближних! Обратимся к воспоминаниям Натальи Сергеевны Рахманиной: «Мне было 9 лет, чтобы помочь семье, я ходила продавать игрушки. Потом мама мне это запретила… Я потихоньку от мамы прятала свою еду (мне давали больше, чем другим взрослым) и относила отцу в кукольной посуде. Отца в армию не взяли: ему было за 50 лет, и один глаз его не видел»..В воспоминаниях Натальи Сергеевны есть строки, свидетельствующие и о братской любви к ближним, о готовности прийти на помощь соседям: «Когда пошли слухи, что немцы возьмут город, наша соседка по площадке (они были немцы, вообще в нашем доме было много немецких семей, так как дом до революции принадлежал немке), ее звали Эмма Яковлевна, сказала, что они возьмут Наташу (меня) к себе в случае оккупации, так как известно было отношение у фашистов к евреям». Инна Викторовна Твелькмейер вспоминает готовность людей в трудное время помочь друг другу, выручить: «Несмотря на холод, голод, отсутствие бытовых удобств (водопровод, электричество не работали, канализация замерзла), мы все, оставшиеся блокадники, жили очень дружно, помогали друг другу чем могли. Зимой 41-42 года у нас жила мамина подруга, муж которой был арестован в 37-м году; с ней делились всем, что у нас было. Другая мамина подруга сварила черепаху, которая у них жила, и пригласила нас на черепаховый суп (наверное, в нем было больше воды, чем черепахи). Дочке, чтобы ее не расстраивать, она сказала, что поймала голубя». Слово о трудах: Вспоминает И. В. Твелькмейер: «Мама моя – архитектор, работала в институте Гипрогор. В блокаду архитекторам нашли работу: плести маскировочные сети. За это давали рабочую карточку, что было весьма существенно. Мы с мамой ходили в здание Гипрогора, где брали толстые грубые веревки, из которых и плели эти сети. Веревки были очень колючие, руки у нас всегда были в трещинах. Для работы нам кто-то сделал специальные челноки и дощечки, они у меня до сих пор хранятся». Дети, разделяя тяготы военной жизни взрослых, нередко трудились рядом со своими родителями. Вспоминает Галина Ивановна Голиус: «С началом войны мама была мобилизована и командирована в эвакогоспиталь, находившийся в здании Военно - транспортной академии, в 10-ти минутах ходьбы от дома, я была при ней. Девятилетняя, я все дни проводила в отделении. На мне было платье из гимнастерки с ремнем и белый халат из разрезанной рубашки моего брата. Жили мы в общежитии госпиталя. В этом отделении помещались бойцы с травмами лица, глаз. Мама по профессии глазной врач. Итак, после школы (я в 3-ем классе) я приходила в отделение и весь вечер проводила там: водила по коридорам слепых, хромых, сидела у постели, читала вслух что-то интересное, раздавала градусники, писала письма. Очевидно, детская фигурка напоминала раненым бойцам о доме». Об умении быть благодарными: Многие говорят с благодарностью о своих учителях. Не беды и лишения военного лихолетья вспоминает Ирина Владимировна Столярова, а тех, чей личный пример стал для нее и многих ее сверстниц жизненным ориентиром, чьим душевным теплом были обогреты дети. Это тепло пронесено ею сквозь десятилетия: «Мне очень повезло с учителями и в небольшой районной школе в Борисоглебе, древнем поселке Ярославской области, а по возвращении из деревни – и в Ленинградской 21 школе Васильевского острова. Нина Петровна Мурикова учила нас в Борисоглебе со второго по четвертый класс. Совсем незадолго до этого в Ленинграде мама за руку водила меня в школу, которая находилась на соседней линии, совсем недалеко от нашего дома. Теперь мне приходилось темным осенним или зимним утром идти в класс одной или, если повезет, с небольшой гурьбой опальневских ребят. Шли мы два с половиной километра сначала заснеженным полем (после зимней пурги дорога нередко терялась), а потом сосновым лесом. Из-за недостатка дров наша школа, помещавшаяся тогда в старой, утлой избушке, очень плохо отапливалась. По утрам нередко замерзали чернила в чернильницах, мы усаживались за парты в пальто, всем нам все время хотелось есть, но приходила наша любимая учительница Нина Петровна, и жизнь сразу принимала другую окраску. У самой Нины Петровны в это время на руках было трое детей, осиротевших в войну. Кроме козы, никакой другой живности у нее не было, но она не ушла с головой в свои беды, не замкнулась и не ожесточилась. В самые большие морозы, когда руки стыли и писать становилось невозможно, она собирала нас у большой изразцовой печки, в которой все-таки теплилось несколько полешек, и рассказывала (не читала, а именно рассказывала) нам сказки одну за другой, - такие интересные, что мы готовы были слушать их без устали. Это были замечательные часы, и холод, и голод отступали. Я с раннего детства любила читать, многие сказки давно мне были знакомы, но такого удовольствия от погружения в их мир, которое мы переживали в холодном классе, слушая, как «сказывает» нам сказку Нина Петровна, я больше никогда не испытывала. Зимой 1944 года, когда война уже подходила к концу, мы вернулись в Ленинград. Для моего самоопределения решающую роль сыграли уроки Лидии Львовны Бианки, учительницы русского языка и литературы в старших классах нашей школы. Уроки Лидии Львовны служили задаче развития нашего самосознания, способности к выбору своего пути – духовного и профессионального. По окончании школы в значительной степени именно под влиянием Лидии Львовны я и решила поступать на филфак университета». О потребности в чтении, музыке: В воспоминаниях детей-василеостровцев особое место занимают книги. И. В. Твелькмейер, всю блокаду находившаяся с родителями в блокадном городе, вспоминает: «Радио работу не прекращало. Были очень хорошие литературные передачи и для детей с продолжением. Я помню сериалы «Айвенго» и «Тома Сойера», было много хорошей музыки. Работала Филармония. В театре Музкомедии голодные артисты пели и танцевали, несмотря на голод. Наш знакомый в 42 – м году должен был дирижировать концертом, он так мечтал об этом, волновался. Я помню, что он приходил к нам просить немного крахмала – накрахмалить фрачную манишку, но, насколько я помню, крахмала у нас уже не было. До концерта он не дожил. Я вспомнила про него, когда в телевизионной передаче «Своя игра» был задан вопрос: «что подарили Шостаковичу, когда он готовился дирижировать Ленинградской симфонией? Ответ был: мешочек крахмала». Об уверенности в победе Ленинграда: Вячеслав Васильевич Фокин вспоминает: «В Ленинград мы вернулись зимой 44-45 года. Снежной зимой. Но дороги расчищены. Расчищены пешеходные дорожки на тротуарах и на бульваре 6 и 7 линии Васильевского острова». И.В.Твелькмейер:«Летом многие архитекторы занялись обмерами поврежденных зданий-памятников, с целью их восстановления после окончания войны. Никто не думал о возможном поражении, а только ждали победы. Отец каждый день говорил: «Еще одним днем ближе к миру». Мама тоже включилась в эти работы, и я ей помогала, держала рулетку, записывала под диктовку размеры. Делать мне летом было нечего, и я с удовольствием ходила с мамой по нашему все еще прекрасному, несмотря на разрушения, городу. Больно видеть, что то, что не удалось сделать фашистам – стереть с лица земли нашу северную жемчужину, – теперь планомерно осуществляется во имя сиюминутной выгоды». О милосердии и великодушии: Враги намеревались сделать пасхальный подарок своему командованию ценой гибели невинных людей. 99-летняя Анастасия Михайловна Фокина теперь вспоминает: «На Пасху в 1942 году произошло следующее. Через Волгу было два моста – связь с Москвой, с Уралом - немцы хотели новый мост разбомбить. А погода стояла хорошая, теплая, солнечная. Перед Пасхой в Великий четверг наши что-то прозевали, пропустили несколько самолетов немецких. Пролетели они над деревней Ильинское и начали бомбить. Но хоть они и совсем близко были у Волги, не дали мост разбомбить. И пришлось им сбросить бомбы ниже моста - все гудело. Земля зашаталась – такие были бомбы». Детям той поры, видевшим немало страданий, все же больше всего запомнился ужас гибели их сверстников: вспоминает Виктор Васильевич Фокин об увиденном им у железнодорожной станции Волга: «В 1943 году я ходил в первый класс деревенской школы. Однажды утром школьникам сказали, что занятий не будет, и мы увидели, как из школы выводили детей, эвакуированных из Ленинграда, и рассаживали в запряженные сани. Оказалось, поезд на станцию пришел поздно вечером, дальше ребятишек по морозу в детский дом не повезли и разместили на ночь в школьных классах. Не все из них пережили эту ночь, и на глазах деревенских ребят в другие сани позднее стали грузить умерших детей. Я до сих пор вижу эту потрясшую меня картину – мертвые детские тела в санках. Так сельские жители воочию увидели трагедию Ленинграда. Мы вернулись из эвакуации в январе 1945г., когда война еще не закончилась. До войны мы жили в маленьком доме с двумя двориками. Детей было человек 12. Мы все играли вместе, дружили, нас даже в кино взрослые водили всех сразу. А остались в живых те, кто был вывезен из осажденного города – всего четверо!» Но, несмотря на причиненные неизмеримые страдания, победители милосердны, о чем свидетельствуют воспоминания Вячеслава Васильевича Фокина: «Уже после войны я видел, как водили на работу пленных немцев. Они идут колонной по дороге, а сбоку колонны идет сопровождающий их солдат без оружия. Но видел я и то, что меня поразило еще больше. Я видел пленных немцев, одетых в немецкую форму, но без наград и знаков различия. Эти немцы гуляли без всякого сопровождения по Александровскому саду и около Эрмитажа. Их никто не трогал и даже ничего не говорил в их адрес. И это – после страшнейшей блокады!»
…Чем больше мы узнаем о трудах и радостях обычных людей, ставших победителями, тем больше убеждаемся – знания эти неисчерпаемы. События тех дней, сохраненные в воспоминаниях, свидетельствует: есть образец трудолюбия, есть образец внутренней силы и великодушия для нас и наших детей.
С.Ф.Щукина
Воспоминания о военных буднях
Предисловие Будьте как дети… Мф. 18,3 Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца. Б.Л.Пастернак
Как радостно быть победителем! Какая честь быть детьми победителей! Все мы – независимо от возраста – дети победителей… Вслушаемся в слово «победитель»: корень «бед» - от «беда», приставка «по-» означает «после», «вслед за»[16] бедой. Интересен суффикс «-тель»: видимо, исторически он произошел от корня слова «тело». Однокоренное с ним «телец» - напоминает о жертве. Без жертвы нет победы. Во имя Великой Победы жертвовали жизнью, иначе не победили бы. Исходя из толкования состава слова, можно сказать, что истинный победитель – всегда тот, кто, преодолевая беду, жертвует собой физически ради победы в духе. Так было и есть во все времена. Участник Отечественной войны 1812 года адмирал Александр Семенович Шишков в «Рассуждении о любви к Отечеству» писал: «Взглянем после сражения на ратное поле, посмотрим с ужасом на сии многие тысячи людей, лежащих без рук, обезглавленных, растерзанных, умирающих и мертвых: кто удержал их на поле брани?.. Неужели страх наказания? …Всяк из сих христолюбивых воинов, перекрестясь, становился на место убитого подле него товарища, и все сряду, увенчанные кровью, не сделав шагу назад, лежали побитые, однако же не побежденные. …Человек, не рожденный и не воспитанный в вере, может еще быть честолюбив и праводушен, но тот, кто отпадает от нее, истребит ее из души своей, в том не останется ничего, кроме страсти к самому себе. Его могут убить, но сам он ни за кого не умрет. Вера дает нам душевные силы любить и делать добро, маловерие отъемлет их, безверие же погружает нас в бездну буйств и пороков, разрушающих безопасность, тишину и спокойствие народное».[17] Во имя безопасности, тишины и спокойствия народного в грядущие времена мы обязаны сохранить в семейной и народной памяти драгоценные впечатления наших соотечественников, свидетельствующие о жизни в духе вопреки смерти, о победе – в первую очередь - над своими телесными немощами. Первое значение слова «побеждать», которое приводит в своем знаменитом словаре В.И.Даль, – «осиливать», то есть преодолевать силой[18]. Но мы-то знаем, что сила в немощи совершается (2-ое Кор. 12,9). Почему? Этимологически слово «сила» происходит от праславянского «sila» - «душа, дух, чувство»[19]. Другой исток смысла слова «сила» в слове «связь» (др.-инд. syati – то, что «соединяет», «связывает»).[20] Победитель – человек, «одержавший победу, одолевший»[21] не только внешнего противника, но и свои слабости благодаря силе духа и связи - единению. «Народ российский всегда крепок был языком и верою; язык делал его единомысленным, вера – единодушным», - писал А.С.Шишков.[22] В этом издании представлены воспоминания о блокадном детстве ленинградцев, ныне – петербуржцев. Их объединяет одна колыбель – Васильевский остров. Многих из них в детстве родители и бабушки приводили на службу в Князь-Владимирский собор. Господь уберег этих детей в трудную пору военного времени. Год рождения большинства - 1932. Учились они в 21 школе Василеостровского района. Все они не считают себя героями, даже 9-летний «сын полка» 1942-ого Виктор Лушин. Все авторы-«девочки», чьи воспоминания здесь представлены, - одноклассницы: Ира Столярова, Галя Голиус, Инна Твелькмейер, Наташа Рахманина, Галя Голотина - вот уже семьдесят лет помогают друг другу как родные сестры – сестры по духу.
Многие – почти все – ежедневно читали, таким образом, жили кругом интересов, выходящих за пределы военного времени и пространства, ограниченного кольцом блокады. Во время войны они жили с миром в душе. После открытия Дороги Жизни многие были эвакуированы в Поволжье. Они вспоминают о взаимопомощи взрослых и детей, о трудах, о потребности в чтении и музыке, об уверенности в победе. Они вспоминают о милосердии и великодушии, и сами умеют быть милосердными, благодарными людям и Богу. Старшие братья по-отцовски заботились о младших. Особенно в воспоминаниях удивляет то, что не только взрослые жертвовали собой ради близких, друзей и совершенно незнакомых людей, но дети нередко отдавали свой паек страдающим от голода взрослым. И «дети» вспоминают об этом как о само собой разумеющимся. Всмотримся в лица авторов этих статей, их родителей… Как они красивы! И эта внутренняя красота светится в их взглядах и на детских снимках, и на современных – 2000 годов. Их взгляд обращен к нам. Когда мы говорим о ленинградцах - тех, кто родился в этом городе, обычно не имеем в виду, словно бы забываем, что корни их, их родителей – в разных краях России. Корни семьи Голиусов - Донецк и Харьков. Лушин – корнями через маму – из Тульской, Столяровы - из Ярославской земли. Рахманина из Кашина по отцу, через маму – из Керчи. Крестила ее няня – Екатерина Александровна Петрова, уроженка Ярославской области. Фокины корнями из Ярославской и Архангельской областей. Голотины – из города Белого Смоленской области. Победители – взрослые и дети – корнями не только во плоти, но и по духу с той земли, которая прежде называлась Святая Русь. «Братья и сестры…» - эти слова обращения к народу с известием о нападении фашистской Германии на нашу страну были самыми точными, самыми правильными. Братья и сестры по крови, братья и сестры по духу встали на защиту отечества. Со времен «Слова о полку Игореве» мы помним – если брат пошел на брата – придут на Землю Русскую полчища поганых… Пришли полчища поганых, но не смогли одолеть, потому что человек человеку был братом. В повести «Тарас Бульба» сказано: «нет уз святее товарищества», братства по духу. Все русские писатели-классики утверждают: захватническая война - преступление против человечества. В воспоминаниях А.М.Фокиной, эвакуированной под Ярославль, читаем о том, как враги намеревались сделать «пасхальный подарок» своему командованию ценой гибели невинных людей: «Перед Пасхой в Великий четверг наши что-то прозевали, пропустили несколько самолетов немецких. Пролетели они над деревней Ильинское и начали бомбить». Но «хоть они и совсем близко были у Волги, наши не дали мост разбомбить. И пришлось им сбросить бомбы ниже моста - все гудело. Земля зашаталась – такие были бомбы».
Теперь нередко стираются оценочные эпитеты из сообщений о боевых действиях, когда мы слышим о том, что где-то в мире совершена «военная операция». Но, к счастью, 9 Мая, вспоминая о Победе в Великой Отечественной войне, мы называем своими именами произошедшие события, героев – героями, а войну, в которой победили отцы и дети, - священной…
Вспоминает
Виктор Андреевич Лушин
Сын полка «Чтобы спасти меня от неизбежной смерти, брат решил увезти меня на фронт»
Для меня война началась на даче под Вырицей, где мы отдыхали с мамой и племянником. Мне было 9 лет, а племяннику Вале - 2 года. Только в июле, когда немцы были уже совсем близко, за нами ранним утром приехал отец. С узлом наспех собранных вещей мы, в товарном поезде, рядом с ранеными солдатами с передовой добирались несколько часов до Ленинграда.
Аттракцион «Американские горки» находился недалеко от зоопарка, его подожгли ночью. Я смотрел на пожар с крыши нашего дома - было светло, как днём. Как-то быстро подступил голод. Школы закрывались одна за другой, потому что учеников становилось всё меньше. А ходили в школу, в основном, из-за того, что там давали тарелку супа. За тот блокадный год я поучился в 6-7 школах. Помню переклички перед занятиями, на каждой из которых привычно звучало: умер.. умер.. Одной из моих блокадных школ была, если мне не изменяет память, 21-ая — она располагалась на территории Ленинградского университета. Там, перед зданием 12-ти коллегий, мы соревновались: кто соберёт больше кленовых листьев — они шли на табак для фронтовиков. Началась блокадная зима с сорокаградусными морозами, бомбёжками, артобстрелами, отсутствием электроэнергии, воды, канализации и голодом. Люди массово гибли, у живых не было сил хоронить умерших.
С огромными потерями батальоны под командованием старшего лейтенанта Проценко и капитана Заводского при поддержке нашей батареи и других огневых средств, смогли занять передовую линию траншей. С наблюдательного пункта батареи я видел, как сапёры под огнём рыли выезды для лёгкой техники, потому что тяжёлые танки принимать участие в боях не могли — невский лёд не выдерживал. Помню, как один из танков ночью, с горящими огнями, провалился под лёд. Стрелковые батареи несли тяжёлые потери и постоянно требовали пополнения, поэтому комбату Бусыгину приходилось отправлять на передовую (а, значит, на верную смерть) сначала хозяйственников, поваров, а потом и бойцов из огневых расчётов. Так он отправил на передовую друга моего брата, и только лет через двадцать после войны узнал с радостью, что тот выжил после тяжёлого ранения. По окончании войны Александр Иванович долго разыскивал своих однополчан, нашёл и меня в Ленинграде, мы с ним переписывались, я даже ездил к нему в гости, под Нижний Новгород. А во время войны я вернулся к родным только после полного снятия блокады.
2010 г.
Воспоминает Анна Петровна Голиус
«В эту незабываемую и непередаваемую пору…»
Разразилась война 41-ого года. Мой муж был на фронте, я с двумя детьми - Димой и Галей осталась в Ленинграде. Мать моя вскоре заболела инсультом – она боялась бомбежек и переживала все очень остро, а тут быстро стали ощущать голод, так как запасов никаких не было. Зарплаты нашей малой врачебной не хватало, и мальчик мой стал остро голодать, его даже устроили на завод слесарем; но я, видя, как он, истощенный и усталый, приходит голодный домой, где ему нечего было дать поесть, уговорила уйти оттуда. У матери повторился инсульт, и я попыталась устроить ее в больницу. Моя знакомая отвезла ее куда-то «на острова», и так как наступила жестокая зима, то мне сказали, что вряд ли я ее найду… Меня же мобилизовали осенью 41-ого года, и я начала работать в госпитале бывшей военно-транспортной академии на Васильевском острове, куда я ходила вместе с девочкой Галей, которой было 8-9 лет. Дома уже парового отопления не было, печей – так же; электричества – так же. А керосин – не достать. Наша квартира превратилась в нежилую, холодную, куда было тяжело входить. Я не знала, что мне делать с Димой, видя, как он тает на глазах. Ему было 17 лет: высокий, худой и бледный до прозрачности – он печально ходил и хотел идти куда-либо: в морское училище, куда его давно тянуло, но придя с товарищами в училище Фрунзе и в училище Дзержинского, получил отказ из-за имеющейся небольшой близорукости. Я обратилась к начальнику госпиталя, прося его устроить моего сына санитаром, но он мне жестко отказал, и я в отчаянии согласилась, чтобы Дима пошел добровольцем, так как до призыва надо ждать было еще год. Я боялась, что Дима не выдержит длительной голодовки и погибнет, как погиб от голода его товарищ, и многие тысячи юношей погибли в ту суровую пору… Отряд этих юношей-лыжников стоял в Токсово в ту жестокую, морозную зиму 41 и 42 г.г.. Я однажды выпросила увольнительную и поехала с поездом, который долго не двигался от вокзала. Приехав в Токсово, я без особого труда отыскала место, где стоял отряд молодых лыжников – лыжники были на стрельбище. Подходя к стрельбищу, я увидела высокую, медленно ползущую фигуру своего сына. Поцеловав его в шершавую от холода щеку и взглянув в его печальные глаза, я торопливо здесь же, на морозе, сунула ему консервы и еще что-то, доставшееся мне по карточке. Спросила его – долго ли пробудут здесь они. Он, сказав, что ждут снаряжения, обещал приехать ко мне. Не помню, как я добралась до Перед Новым годом заехал ко мне его школьный товарищ из Токсово в командировку с записочкой от Димы, в которой он сообщал, что в сарае, где они живут, не топят, а кормят их весьма скудно – сухари и еще то, что сами добывают за папиросы и - что скоро их отправят на фронт. Больше я не имела никаких вестей. Однажды, имея увольнение для посещения своей матери, я встретила уже весной 42 года в трамвае мать товарища Димы – Глеба Козлова, с которым он направился на фронт; и мне она сказала, что сын ее прислал письмо, в котором он сообщал, что в наступлении подо Мгой погиб мой сын, а через три дня и товарищ тоже погиб. В военкомате только в 1944 г. мне сообщили, что сын мой пропал без вести. Конечно же, эта версия не правильная, т.к. в январе 1942 г. товарищ сам лично видел его конец… Самое ужасное было то, что я не могла его удержать до времени призыва – время тогда изменилось и он мог бы дольше продержаться и больше пользы бы принес тогда. Как могла я сохранить его тогда в эту незабываемую и непередаваемую пору, имея на руках больную мать, высоченного подростка-мальчишку и 9-летнюю девочку? Ехать – эвакуироваться куда-либо я не решилась без денег, вещей, с тремя иждивенцами… Запоздалые посылки мужа, уже когда Дима был взят, спасли меня и Галю. И мы, получая их с какой-либо оказией через Дорогу Жизни, наедались с жадностью – присылаемого хлеба с маслом; половину относя в замерзшую квартиру, в надежде, что можно будет выслать Диме, от которого не было вестей и не могло уже быть. Думая, что мать моя, бедная, уже умерла, и не рискуя ее найти, я стала какой-то безразличной, как и многие другие в то время. Однажды, зайдя в свою замерзшую квартиру, я услышала стук в дверь. Я открыла и увидела девушку в полушубке, которая начала мне говорить про «тетю Олю». Я из ее рассказа поняла, что мать моя - ее звали Ольга Алексеевна – жива и находится в больнице «на островах». Приблизительно рассказала мне, как ее найти. Я, получив очередную увольнительную, стала искать свою мать, шагая по снегу с Васильевского острова до «островов» - как, уж не помню, нашла ее. Почти год моя мать пролежала в больнице хроников, там хоть и плохо, но кое-как кормили и топили. Умерла она в 1942 году, 31 декабря. А в январе, в первых числах я ее похоронила на Охтинском кладбище, как она и просила – чтобы не бросили в морг. Настала ужасная пора в госпитале, где и раненых, и больных насчитывалось до двух тысяч. Паровое отопление прекратилось, нам буржуек было недостаточно, и госпиталь стал замерзать, покрываясь льдом, как сталактитами… От этих кошмарных условий, главное – от холода, больные и раненые гибли каждодневно, трупами полны были коридоры и палаты… Начальник госпиталя с военкомом поселились где-то вне здания, и мы их не видели… Месяца полтора я и Галя спали на диване в кабинете, одетыми в пальто, не раздеваясь. Наконец было предложено уйти ночевать по домам, но дома находиться было невозможно: раз мы попробовали, но стоящая колом замерзающая одежда и одеяла не согревали: топить было нечем и печей не было, так мы и уснули. На другой день отправились в жакт, где печь также не топилась – дров не было. Пошли в поликлинику; легли на скамейки и так же дрожали от холода без сна. Вспомнили своих знакомых – приятельницу Дору Борисовну Эвину – врача с мужем-инженером и дочерью, которые жили на 1-ой линии. Пришли к ним: они, закопченные от дыма, жили в столовой-комнате, остальные не топили – не было дров. Узнав наше препечальное положение, что мы могли просто замерзнуть на улице, как и многие в то время, Дора Борисовна предложила нам купить как-нибудь дров, т.к. деньги у меня были и предложила поселиться нам и топить соседнюю комнату, стена которой выходила на их и наше помещение. И я с Галей поселилась у них… Не судьба была, видно, нам замерзнуть на улице, и мы, обрадованные, что сможем как-то помыться и раздеться (так как стали уже вшиветь) поселились у них и прожили с полгода в некотором тепле у добрых людей, которые, к сожалению, в апреле 42 года уехали в Москву и живут там и поныне, и иногда приезжают к нам. В госпиталь к нам назначили начальника доктора Каневского Филиппа Исааковича, который, можно сказать, явился нашим спасителем и всего нашего госпиталя, несмотря на тяжелейшие условия. Прежде всего стали налаживать отопление, дабы можно было принимать раненых. Человек он был чрезвычайно настойчивый и трудолюбивый и вообще большой души… Увидев нас, таких страшных и по физическому состоянию, и по одежде, он всячески старался облегчить положение персонала – нам стали выдавать понемногу белого хлеба. Паек стал увеличиваться, и как только наладили с отоплением и ремонтом, нас снова водворили обязательно жить при госпитале. Мы все принимали участие в ремонте и вывозе выросших гор экскрементов внутри здания. Принимали участие все, начиная с начальника госпиталя. Раненых и больных не принимали, пока госпиталь не принял вид, пригодный для человеческого житья и лечения… У нас в госпитале была маленькая отдельная комнатка на 5-ом этаже, и в этом этаже было много крыс, которые пугали Галю. Часто она созерцала, как крыса, взобравшись на занавеску, качалась на ней. А еще крыса, обхватив лапками трубу, ездила сверху вниз со звоном. Однажды крыса, попав хвостом в крысоловку, не могла уйти и целый день таскала эту крысоловку по комнате, а ночью, все же оторвав свой хвост в крысоловке, убежала. Наш госпиталь стоял на набережной Невы – Тучковой (теперь – набережная Макарова); напротив госпиталя стояла какая-то подводная лодка с зенитками. Немец, видимо, знал это, так как зачастую налет вражеских самолетов заставлял нас при тревоге спускаться в подвал-бомбоубежище и наших раненых. Эти налеты бывали до десяти и более раз в день. Моя девочка Галя нервничала, недосыпала, и я ей внушила, что спускаться в бомбоубежище не надо. Училась она в школе, которую перевели в Университет, так что было близко ходить. Учеба была не блестящая среди всей этой суровой обстановки, а главное – девочка хотела есть, а еды не хватало – то есть моего пайка на двоих. Утешением были посылки от мужа, но все это было периодически, и потому мы всегда чувствовали недоедание: все то, что получалось, мигом съедалось… Я уже стала думать – как быть дальше: по-видимому, человек живой думает еще о будущем.
В том же 42 году весной над нашим домом, где мы жили до войны, пролетел немецкий самолет и выбросил бомбу, которая разрушила соседний дом, а в нашем (так как окна были закрыты), выбило и рамы и стекла и даже обвалилась штукатурка во всех комнатах. Мне об этом сообщил наш политрук, так как видел все это в окно. Я попросила доктора Каневского отпустить меня домой – и не поверила своим глазам тому, что увидела… У нашего флигеля была сорвана крыша, а балки еще зимой растащили оставшиеся жильцы на дрова. Жильцы этого флигеля либо уехали, либо погибли от голода. В комнату протекали ручьи воды летом и осенью, а весной - оттаявший снег, и так продолжалось три года. Три д ня собирала я горы штукатурки и стекла. Я ходила в райсполком каждую увольнительную и просила принять меры, чтобы сделать крышу над домом. Мне техник дал справку, что эта квартира непригодна для жилья, но взамен мне предложили еще более непригодную. Про этот дом узнали рабочие Балтийского завода и решили сами чинить или покрыть хотя бы толем крышу, и тогда уже думать о дальнейшем ремонте. Крышу рабочие сделали; за это рабочие выговорили себе в этом флигеле квартиры.. И в одну из зим, когда наш госпиталь перевели в 44 году на красноармейскую, я пригласила маляров-матросов, и они кое-как среди холода заштукатурили стены и потолок. В конце 44 года госпиталь уехал в Польшу, а меня с девочкой оставили по распоряжению ФЭТА (фронтового эвакопункта) в Ленинграде, где я вскоре демобилизовалась, но жить в квартире нельзя было, надо было ставить печку, которая с трудом была сделана (до войны у нас было паровое отопление) – т.к. дымоходы трудно было найти. Печь часто дымила – нам соседи снизу не разрешали топить – вызывали пожарную команду. И бедная Галя с руками, красными, как лапки у гуся, сидела в пальто и делала уроки. Начали греть керосинкой в одной из комнат, где девочка бедная пролежала 2 недели с воспалением легких. Временно жила я у одного врача – окулиста Марии Васильевны Родионовой. Затем перебралась в квартиру одной из медсестер – Веры Ивановны Федоровой. Там топили печь, но крыша протекала, и я часто оставляла Галю одну, не зная – где уложить ее, т.к. ручьи воды скоплялись на полу, и приходилось подбирать ее тряпками в ведра – и так продолжалось с полгода; дальше уже стали налаживаться дела дома. Стекла приходилось приобретать с трудом – кусками; печку наладили и можно было хоть с трудом жить дома. Одно время ютились на кухне, но плита скоро уносила тепло, из дверей несло холодом, так как двери при бомбежке плотно не закрывались – всюду были щели и еще долго мы терпели жилищные неудачи. В поликлинику Василеостровского района я после демобилизации легко устроилась, т.к. врача окулиста постоянного кроме меня не было, и я работала там, имея большие приемы до мая 1958 года. Пора было выходить на пенсию… 1960 г. Вспоминает Галина Ивановна Голиус
О моих военных буднях («Может быть, эти четыре военных года и были теплыми и самыми-самыми в моей жизни…») Из госпитальных пациентов помню еще Алешу Лепянского (правый глаз фарфоровый). Он, 18-летний, до войны мечтал стать артистом. В госпитале активно участвовал в самодеятельности. Шофер Проворов топил титан, обеспечивал отделение чаем, а мне рассказывал сказки. Для выздоравливающих у нас была форма, которую парни с удовольствием носили – эдакие костюмы белые, напоминающие курортный элегант. В них можно было приударить за сестрами. Для разглаживания их клали на ночь под матрац. С удовольствием таскали кастрюли с едой, демонстрируя возвращающееся здоровье. Мимо Военно-транспортной академии всегда иду с тихим волнением, может быть, эти 4 военных года были и теплыми и волнительными, самыми-самыми в моей жизни. Недавно купила в ларьке брошюру про путешественника Амундсена. Его чудный портрет похож на начальника нашего госпиталя: глаза добрые, лицо мужественное. Начальник нашего госпиталя – Филипп Исаакович Каневский[23], по специальности акушер-гинеколог. Побольше бы таких начальников! Честь-хвала таким людям!
Галина Ивановна Голиус, врач врач-бактериолог в лаборатории Института Акушерства и Гинекогогии им. Д.О.Отта. 2010 г.
Вспоминает Инна Викторовна Нельсон (ур. Твелькмейер)
Моя жизнь в блокадном Ленинграде в 1941 – 44 г.г. («Мы все, оставшиеся блокадники, жили очень дружно…»)
Когда началась война, мне шел десятый год. Отец мой, Виктор Федорович Твелькмейер, преподавал в Академии художеств и его оставили на всю войну директором охранять здание Академии. Мама со мной тоже осталась, и таким образом мы всю блокаду провели в Ленинграде[24]. Осенью начались бомбежки. Сперва ходили в бомбоубежище в подвале здания бывшей Академии наук на I – ой линии Васильевского острова (мы жили напротив), но потом, когда жители убедились, что бомбы пробивают все перекрытия до самого подвала, ходить перестали. Только спали, не раздеваясь (да и теплее было). Как ни странно, я бомбежек не боялась, мне казалось, что бомба в нас не попадет, и так и случилось. Бомбы и снаряды падали кругом, но мы остались целы. Первая бомба в тонну весом упала во дворе нашего дома на Съездовской (теперь опять Кадетской линии, рядом с церковью Святой Екатерины, где помещался военный завод. Мой отец как раз дежурил у парадной – слышит свист и думает: все, конец, но ничего не случилось. Прибежали военные и сказали, чтобы все из дома уходили. Потом ее долго пытались откопать, но она ушла в плывун, и ее нашли только в 70-е годы. Во время обстрела снаряды попали в соседний дом и в часовенку при церкви, а у нас только вылетели стекла. В 1948 году мы переехали на набережную р.Мойки, напротив Храма-на-Крови. Когда его стали реставрировать и поставили леса, на колокольне нашли неразорвавшийся снаряд. Еще одна неразорвавшаяся бомба поджидала нас на Марсовом поле. Мы уехали к родственникам на Большой проспект, но через неделю там во двор тоже упала бомба, вылетели стекла, и мы вернулись к себе. Надо сказать, что от холода в блокаду погибло гораздо больше народа, чем от бомбежек. Из наших знакомых я таких не помню, а от голода умерли многие, главным образом – мужчины, причем не в самую страшную зиму 41-42 года, а в 42-43 г.г., когда стало немного полегче. В нашей семье умер мамин двоюродный брат. Приятель моих родителей, архитектор Даугуль. Он был страстным рыболовом, когда они с мамой виделись, он говорил: «Подожди, Лидочка, будет весна, я буду рыбу ловить, будем сыты». Но до весны он не дожил. Самой трудной и голодной была зима 41-42 года, ели все, что попадется. Деликатесом были лепешки из соевых жмыхов и щи из «хряпы», квашеные листья капусты, самые грубые, наружные. Мне доводилось встречать в рассказах о голодающих в блокаду слова о том, что они ели лепешки из картофельных очисток. Откуда бы им взяться, если тогда картошки и в помине не было. Варили студень из клея. Мамина подруга, скульптор, дала нам клей, который применяется для скульптурных работ. Он был светлый, прозрачный, и студень из него был почти как настоящий. В Академии художеств сотрудникам давали казеин, из него мама делала что-то вроде творога, даже на праздник Пасхи умудрилась сделать пасху. Единственное, что я не могла есть – это лепешки из костной муки – ужасная гадость. Выжить в блокаду нам помогла покойная бабушка. Пережив I-ую Мировую, гражданскую войны, послереволюционные голодные войны (карточки отменили только перед войной) она всегда старалась иметь в доме запас муки, крупы, макарон, т.е. всего, что не портится. Из этого мама варила супчик, в котором плавали несколько крупинок, пара макаронин, но все-таки это была какая-то горячая еда: съели все гомеопатические лекарства, которые остались от бабушки. Несмотря на холод, голод, отсутствие бытовых удобств (водопровод, электричество не работали, канализация замерзла), мы все, оставшиеся блокадники, жили очень дружно, помогали друг другу, чем могли. Зимой 41-42 года у нас жила мамина подруга, муж которой был арестован в 37-м году (он вернулся только после войны); с ней делились всем, что у нас было. Другая мамина подруга сварила черепаху, которая у них жила, и пригласила нас на черепаховый суп (наверное, в нем было больше воды, чем черепахи). Дочка, чтобы ее не расстраивать, она сказала, что поймала голубя. Мама моя – архитектор, работала в институте Гипрогор. В блокаду архитекторам нашли работу: плести маскировочные сети. За это давали рабочую карточку, что было весьма существенно. Мы с мамой ходили в здание Гипрогора, где брали толстые грубые веревки, из которых и плели эти сети. Веревки были очень колючие, руки у нас всегда были в трещинах. Для работы нам кто-то сделал специальные челноки и дощечки, они у меня до сих пор хранятся.
Электричества не было, керосин экономили, освещались так называемыми коптилками; их готовили сами из чего попало: маленький фитилек, погруженный в керосин, чуть теплился, но при этом свете мы читали, штопали чулки, папа чертил проект памятника павшим в боях. Радио работу не прекращало. По радио оповещали о начале и конце бомбежки: о начале сообщала сирена, а в конце звучала очень веселая мелодия рожка или горна. Были очень хорошие литературные передачи и для детей с продолжением. Я помню сериалы «Айвенго» и «Тома Сойера», было много хорошей музыки. Художественный уровень передач был гораздо выше, чем в наше сытое, благополучное время. Работала Филармония. В театре музкомедии голодные артисты пели и танцевали, несмотря на голод. Наш знакомый в 42 – м году должен был дирижировать концертом, он так мечтал об этом, волновался. Я помню, что он приходил к нам просить немного крахмала – накрахмалить фрачную манишку, но, насколько я помню, крахмала у нас уже не было. До концерта он не дожил. Я вспомнила про него, когда в телевизионной передаче «Своя игра» был задан вопрос: «что подарили Шостаковичу, когда он готовился дирижировать Ленинградской симфонией? Ответ был: мешочек крахмала. Конечно, молодые участники передачи на этот вопрос не ответили. В кино мы ходили в кинотеатр Форум на 7-ой линии Васильевского острова (теперь на его месте построили большой элитный дом). Тогда в первый раз мы посмотрели прекрасный фильм «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье. Во время бомбежек сеанс прекращали, всем предлагали спуститься в бомбоубежище, а после отбоя сеанс продолжался. Весной 42-го года папа перешел в Академию Художеств на казарменное положение, и мы с мамой тоже переехали туда. Жили сперва в подвале с окнами на набережную: подвалы в здании Академии были хорошие, сухие, дрова были, в окнах еще были стекла (дома у нас окна были забиты досками). В котельной даже был душ. Все сотрудники, оставшиеся в Ленинграде, тоже переехали жить в Академию. Жили все очень дружно, праздники отмечали вместе, скидывались вместе – у кого что было из скудной еды. К весне с продуктами стало лучше, навели порядок с выдачей по карточкам, все население прикрепили к определенным магазинам, и не надо было искать, где бы отовариться. О выдаче продуктов сообщали по радио, в какой день что выдают: крупу, жиры и т.д.. Выдачу объявлял работник исполкома Андрейченко (должность его не помню), но помню до сих пор, как радовались: «Андрейченко объявил!». Большим подспорьем в питании был огород, который развели в большом круглом дворе в центре здания. Несмотря на голод, (а, может быть – благодаря), у многих прошли болезни. Говорили, что у одной из знакомых прошел туберкулез. Насколько я помню, я там была одна девчонка, и, конечно, присутствовала при всех беседах и сборищах, что мне было интересно, и, наверное, многое дало в смысле образования. С нашими соседями по Академии родители продолжали дружбу и после войны, и они у нас потом часто бывали дома. Это искусствоведы Герман Германович Гримм и Михаил Борисович Доброклонский, заведующий фотолабораторией Сергей Гаврилович Гасилов. Музеем заведовала Алаксандра Александровна Белогруд (вдова архитектора). Медсестрой в Академии работала вдова писателя Куприна – Елизавета Маврикиевна, очень милая дама: она всех лечила, много рассказывала про Куприна и про свою дочку, артистку, которая тогда еще оставалась во Франции (вернулась она только после войны). Елизавета Маврикиевна скончалась в 1942 году. Удивительно быстро поле первой страшной зимы был убран город. Несмотря на то, что все нечистоты выливались во двор, в городе не было никаких инфекционных заболеваний, так оперативно навели чистоту. Все, кто только мог держаться на ногах, выходили на уборку улиц. Нашей теперешней администрации взять бы пример. Такого безобразия, как нынче зимой с уборкой снега, даже в блокаду не было. С осени 42 года я стала ходить в школу. В это время немцы перешли с бомбежек на обстрел города снарядами. На Невском проспекте установлена памятная доска с надписью: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна», - такие надписи были почти на всех улицах. Я училась в школе, которая помещалась в здании филологического факультета Университета и каждый день проделывала путь по набережной от Академии до школы. Когда начинался обстрел, нас домой не пускали, и мы сидели в классе, пока он не заканчивался, делали уроки, читали или просто болтали. Перед началом уроков у нас было нечто вроде линейки: мы маршировали строем и пели военные песни. Помню, что пели «Войну священную» и «Юного барабанщика».
Летом многие архитекторы занялись обмерами поврежденных зданий-памятников, с целью их восстановления после окончания войны. Никто не думал о возможном поражении, а только ждали победы. Отец каждый день говорил: «Еще одним днем ближе к миру». Мама тоже включилась в эти работы, и я ей помогала, держала рулетку, записывала под диктовку размеры. Делать мне летом было нечего, и я с удовольствием ходила с мамой по нашему все еще прекрасному, несмотря на разрушения, городу. Больно видеть, что то, что не удалось сделать фашистам – стереть с лица земли нашу северную жемчужину – теперь планомерно осуществляется во имя сиюминутной выгоды и с попустительства властей. В Академии мы жили, насколько я помню, до самого снятия блокады. Мне хорошо запомнилось наше наступление. Утром началась артиллерийская стрельба. Стреляло все, что только могло, даже зенитки, грохот стоял ужасный. Хотя я знала, что это стреляют наши, но все равно было как-то не по себе. Напротив Академии стоял крейсер «Киров», и, когда я шла в школу, видела, как он поднял дуло, стрелял, потом опускал, потом опять поднимал. Во время артподготовки в Академии со стороны набережной вылетели все стекла, которые еще оставались. На всю жизнь мне запомнился салют после снятия блокады. Сколько после было салютов, - их давали после взятия все крупных городов – и после войны, по праздникам, но такого впечатления я больше никогда не испытывала. Мы все влезли на крышу и оттуда любовались этим незабываемым зрелищем. В 44-м году мы перебрались обратно к себе в квартиру. Жизнь понемногу стала налаживаться.
2010 г.
Вспоминает Ирина Владимировна Столярова
О школе военного времени («Мы вспоминаем своих учителей, их характеры, привычки, стиль поведения, уроки, столь многое определившие в нас самих»)
Наверное, это давно стало аксиомой: личность учителя – самый важный фактор в процессе влияния школы на становление личности ученика. К такому пониманию вещей непосредственно подводит каждого из нас собственный жизненный опыт, вынесенный из далекого детства. Когда спустя много лет после окончания школы мы встречаемся со своими одноклассниками, то, прежде всего, вспоминаем их, своих учителей, их характеры, привычки, стиль поведения, уроки, столь многое определившие в нас самих. Я поступила в школу в Ленинграде в канун войны: через год она началась, круто все изменив. Уехав, как обычно, на лето в деревню, на родину папы, я с маленьким братом и бабушкой неожиданно оказалась надолго оторванной от родителей и ото всей былой городской жизни. Много было трудного: всем нам не хватало тогда еды, одежды, школьных тетрадей. Письменные задания мы выполняли обычно на полях старых ненужных книг, домашние уроки готовили по домам при свете коптилок. Мы, приезжие, в просторечии «ковыренные» (от слова «эвакуированные») ходили в школу в одежде не по росту, порой в резиновых мужских сапогах, довольствуясь тем, что случайно находилось в избе. И, тем не менее, я вспоминаю теперь эти военные и первые послевоенные годы тепло. Мне очень повезло с учителями, которых я встретила тогда и в небольшой районной школе в Борисоглебе, древнем поселке Ярославской области, а по возвращении из деревни – и в Ленинградской двадцать первой школе Васильевского острова. О некоторых из этих учителей, оставивших большой след в душе, я и хочу рассказать. Нина Петровна Мурикова учила нас в Борисоглебе со второго по четвертый класс. Совсем незадолго до этого в Ленинграде мама за руку водила меня в школу, которая находилась на соседней линии, совсем недалеко от нашего дома. Теперь мне приходилось темным осенним или зимним утром идти в класс одной или, если повезет, с небольшой гурьбой опальневских ребят[25]. Шли мы два с половиной километра сначала заснеженным полем (после зимней пурги дорога нередко терялась), а потом сосновым лесом. Из-за недостатка дров наша школа, помещавшаяся тогда в старой, утлой избушке, очень плохо отапливалась. По утрам нередко замерзали чернила в чернильницах, мы усаживались за парты в пальто, всем нам все время хотелось есть, но приходила наша любимая учительница Нина Петровна, и жизнь сразу принимала другую окраску. У самой Нины Петровны в это время на руках было трое детей, осиротевших в войну. Кроме козы, никакой другой живности у нее не было, но она не ушла с головой в свои беды, не замкнулась и не ожесточилась. В самые большие морозы, когда руки стыли и писать становилось невозможно, она собирала нас у большой изразцовой печки, в которой все-таки теплилось несколько полешек, и рассказывала (не читала, а именно рассказывала) нам сказки одну за другой, - такие интересные, что мы готовы были слушать их без устали. Это были замечательные часы, и холод и голод отступали. Я с раннего детства любила читать, многие сказки давно мне были знакомы, но такого удовольствия от погружения в их мир, которое мы переживали в холодном классе, слушая, как «сказывает» нам сказку Нина Петровна, я больше никогда не испытывала. Главное – мы живо чувствовали, что наша учительница всех нас любит и хочет согреть и потешить. В этой связи мне хочется вспомнить один «драмокомический» эпизод, героем которого оказалась тогда я сама. Многие наши ребята научились делать бумажные гармошки из вырванного тетрадного листа. Чтобы это получилось, надо было много раз согнуть на определенный манер вчетверо сложенный лист, а потом надуть получившуюся из него гофрированную коробочку. Мне очень захотелось тоже преуспеть в этом искусстве, поэтому прямо на уроке, опустив голову ниже края парты, выпучив глаза, чтобы следить за движениями Нины Петровны, не приближается ли она к моей парте, я начала надувать свое изделие. Старалась изо всех сил уже не как «гармонист», а как трубач, усердно надувающий свои щеки. Видимо, при этом недозволенном занятии, я еще и здорово покраснела, и тут-то Нина Петровна вдруг на меня и взглянула. Сразу же на весь класс раздался ее вопль: «Ириночка, что с тобой?» Так могла вскрикнуть мать, страшно испугавшаяся вдруг за своего ребенка… Еще не поняв, в чем дело, Нина Петровна бросилась ко мне, обняла, а я пережила тогда минуту страшного стыда, до сих пор памятного мне во всей остроте. Сколько интересных утренников придумывала для нас Нина Петровна! Сколько книжек из прекрасной тогда по составу школьной библиотеки вложила нам в руки при подготовке к нашим концертам, как следила потом на репетициях за верностью наших интонаций! Не случайно именно на ее уроке в четвертом классе в сочинении на тему: «Кем я хочу быть?» я вдруг заявила, что хочу стать литературоведом. Обнаружив у себя это детское сочинение много-много позже, я сама удивилась тому, что так рано пришла мне в голову эта мысль. И где только подхватила я тогда само это слово «литературовед»?
Другим прекрасным учителем была математик Александра Дмитриевна Платунова. С первых школьных шагов наибольший интерес я проявляла к гуманитарным предметам, но не отозваться на самозабвенную увлеченность Александры Дмитриевны математикой - как самой замечательной из всех наук - было невозможно. На каждом уроке она не просто знакомила нас с каким-то новым разделом алгебры или геометрии, не просто учила решать задачи, вести доказательство теорем: всякий раз Александра Дмитриевна не переставала искренне восхищаться строгой чеканностью математических формул, красотой логических ходов, ведущих ближайшим путем к решению сложных задач. Вскипавшее в ее душе на наших глазах воодушевление оказывалось для нас самих новой и желанной заразительной радостью. Порой мы сами вырастали в собственных глазах, когда нам удавалось вдруг найти нетривиальное, «красивое» решение поставленной задачи. Я навсегда запомнила Александру Дмитриевну стоящей у задней стены класса и зорко наблюдающей, как идет работа на доске у вызванной ею ученицы. «Да… да… так…», – время от времени роняла она, а потом вдруг решительно большими шагами шагала к доске, перехватывала мел из рук ученицы в свои руки и, ликуя, предлагала вдруг совсем другой путь решения: «А можно и по-другому!...». Тут же мы все вместе решали, какой путь привлекательней, интересней. Именно Александра Дмитриевна была одной из тех, кто открыл нам особого рода радости, радости интеллектуального труда, преодоления инертности своего мышления, привычки к использованию стандартных подходов и решений. Наиболее «продвинутых» из нас (к сожалению, я никогда не была в их числе, хотя училась хорошо) Александра Дмитриевна брала с собой на матмех, на лекции самых выдающихся в то время университетских профессоров, и тогда и она, и наши будущие универсанты (под влиянием Александры Дмитриевны они поступили потом на матмех и физфак) становились соучастницами замечательных интеллектуальных пиршеств. Огромное спасибо Александре Дмитриевне за то, что она ввела нас в заповедную сферу возможной человеческой деятельности, деятельности в сфере абстрактного мышления! Но породниться с точными науками, в отличие от своих подруг, я не смогла. Для моего самоопределения решающую роль сыграли уроки Лидии Львовны Бианки, учительницы русского языка и литературы в старших классах нашей школы...
Недавно я обнаружила в своем старом дневнике запись своих впечатлений от уроков Лидии Львовны, приведу эти странички, хотя мне и немножко совестно за некоторую экзальтацию своего юношеского тона. Поясню, что эта запись сделана мной полгода спустя после окончания школы, когда мне, уже студентке филфака, захотелось вспомнить своих любимых учителей. «Лидия Львовна… Я всегда буду помнить ее подвижное выразительное лицо, которое то страдальчески морщится при плохих ответах, то расцветает во время хороших, то есть самостоятельных, «с изюминкой». Она вся в уроке, живом, захватывающем и все твое существо, заставляющем тебя думать вместе с ней… Я помню урок, когда Лидия Львовна, стоя у моей парты (я так любила, когда она подходила именно к ней!) говорила нам о Татьяне Лариной. Глаза Лидии Львовны теплились и были устремлены куда-то вдаль. Правая рука вытянута вперед с открытой ладонью, как будто там, очень близко от себя она видела Татьяну и любовалась ею. О каждом литературном герое она рассказывает так, как будто о родном, а за ней и мы начинаем чувствовать его себе сродни. Лидия Львовна очень любит завести спор на уроке, выслушать всех и только потом заключить обсуждение самой. Однажды на уроке о «Поднятой целине» у нас поднялся такой гвалт, что в класс ворвалась директриса, решив, что мы безобразничаем, оставшись одни, без учителя, но мы просто увлеклись спором. Я помню также дискуссию о женских образах в западной литературе и русской. И тут во время этого стихийно возникшего разговора Лидия Львовна поразила нас своей эрудицией, логичностью мысли, ее оригинальностью. В наших сочинениях она хотела видеть нечто подобное, и поэтому отметки ее многим казались слишком строгими. Она терпеть не могла, когда в сочинении «не было ничего своего», и в таком случае ставила только тройку. К нашему классу она относилась с явным расположением, хотя это не умаляло ее взыскательности и строгости в оценках. Мы любили поговорить с Лидией Львовной, особенно в перемену или после уроков. Мне запомнился один такой разговор о жизни. Лидия Львовна очень довольна, что стала учителем. Она не скрывает того, что в учительской работе есть элемент повторения, но в какой его нет? И в то же время работа учителя творческая, всякий раз он ищет новых путей, новых образов, новых доказательств своего взгляда….». Одними из самых интересных уроков Лидии Львовны были для нас те, на которых происходил разбор наших сочинений. С замиранием сердца мы ждали объявления оценки, но главным все же было не это, а то, что скажет Лидия Львовна о твоей работе. В ходе анализа сочинений она всегда чутко отзывалась на любое проявление нашей самостоятельности, будь то неожиданный поворот предложенной темы, или свое истолкование изображенной конфликтной ситуации, или удачная характеристика мироощущения героя. Никогда не скрадывались удачи, имевшие место даже в неровно написанных работах, удачи в отдельной части сочинения или даже на малом пространстве одной фразы. «Как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя…», – извечный тютчевский вопрос стоял и перед нами, несмотря на наш юный возраст. Заново вникая в свои работы, мы учились искусству высказывания, радовались, когда что-то получалось, когда удавалось преодолеть свое «немотство», найти нужные слова. Лидия Львовна щедро цитировала понравившиеся ей места, а о недостатках обычно у нее шел разговор один на один с автором.
По окончании школы в значительной степени именно под влиянием Лидии Львовны я и решила поступать на филфак университета. В то же время зависимость моего выбора от уроков Лидии Львовны была так велика, что я мучилась сомнениями, имею ли я внутреннее право на такой шаг. Может быть, это вовсе и не я, а Лидия Львовна так любит литературу, а я свечусь отраженным светом и по-ученически вторю ее пристрастиям. Но все же выбор был сделан, и я поступила. Лучшим днем на первых университетских экзаменах для меня был день первого экзамена по специальности. Выслушав мой ответ о западниках и славянофилах, построенный в значительной своей части на одной из школьных лекций Лидии Львовны, В.Я. Пропп спросил меня, у кого я училась? И тут уж со всем юношеским пылом я рассказала ему о своем Учителе…
2010 г.
Вспоминает Наталья Сергеевна Рахманина
Как я пережила войну
Война началась, когда мы с мамой были на Кавказе в доме отдыха работников Искусств. Сразу собрались возвращаться в Ленинград. Папа, который был в Ленинграде, прислал телеграмму, что всех детей эвакуируют из города, и мы с мамой поехали на Валдай. Оттуда – буквально с последним поездом - приехали домой. Нас пытались эвакуировать, но моя бабушка (мамина мама) отказалась уезжать. Сказала: «Я хочу умереть в своей собственной постели.» (Что и сделала). Хорошо помню 8 сентября, когда горели Бадаевские склады. Бабушка, художник, (окончившая Императорскую академию Художеств, мастерскую И.Е. Репина), сидела на подоконнике и восхищалась заревом. Мне было 9 лет, чтобы помочь семье, я ходила продавать игрушки. Потом мама мне это запретила, т.к. детей убивали и продавали – делали студень. И не только детей, но и мертвых, не говоря о любой живности. Мы съели кошку – хорошо помню запах жареного мяса. Ели все, что было, из сухой горчицы делали лепешки, из столярного клея – студень. Гомеопатические лекарства, которые были у мамы, тоже съели.
Я потихоньку от мамы прятала свою еду (мне давали больше, чем другим взрослым) и относила отцу в кукольной посуде. Отца в армию не взяли: ему было за 50 лет, и один глаз его не видел. Его сын от первого брака (я родилась от второго) погиб. Он был контужен на войне, демобилизован и попал в блокадный Ленинград. Ушел за карточками и не вернулся. Отец сколько смог (дня 2-3) искал его, но не нашел. Либо он упал и умер, либо его убили. После смерти бабушки мы стали продавать кому-то, связанному со снабжением города, бабушкину дореволюционную коллекцию итальянского стекла и мрамора, 2 бюста были примерно ХVIII столетия – я их хорошо помню – все было обменено на продукты. Жили мы все в одной комнате, которую отапливали буржуйкой. Больше всего я боялась, когда мама уходила из дома. Слушала репродуктор, по которому передавали, в каком районе обстрел и спрашивала: а мама в каком районе? Когда пошли слухи, что немцы возьмут город, наша соседка по площадке (они были немцы, вообще в нашем доме было много немецких семей, так как дом до революции принадлежал немке), ее звали Эмма Яковлевна (фамилию не помню, на ее средства бабушка и училась в Академии) сказала, что они возьмут Наташу (меня) к себе в случае оккупации, так как известно было отношение у фашистов к евреям. К апрелю 1942 года мы с мамой решили эвакуироваться. Тот человек, который скупал наши вещи, за 2 бельевых коробки антиквариата обеспечил нас местом в грузовой машине, которая перевезла нас через Ладогу к поезду. По дороге нас обстреливали. После каждого взрыва я успокаивалась только тогда, когда мама говорила, что это наши стреляют. Перед нами машина с людьми ушла под лед. Мы ее объехали, никого не стали (не могли?) спасать и поехали дальше. Переехали через Ладогу и стали загружаться в товарный вагон поезда. Меня на руках внесли, и мы заняли нары, куда поместили вещи и легли сами (на нарах был слой льда толщиной до 10 см). Поезд шел медленно, на станциях все вылезали из вагона, садились по большим и маленьким делам. У нас был мой горшок, который пользовался успехом у всего переполненного людьми вагона. Мертвых выгружали каждый день. На станциях нам стали приносить хлебные крошки. Ехали 10 дней, и в Ярославле мы с мамой вышли, так как обе заболели. А поезд пошел дальше на Северный Кавказ, куда потом пришли немцы. Из Ярославля мы поехали в Тутаев, родину моей няни. Помню, как поднимались с вещами в гору, которая казалась мне огромной. Недавно я была в Тутаеве – горка совсем не высокая. Приехав, пошли к племяннику няни (его фамилия была Цыпленков), который работал в городском или районном исполкоме и сумел устроить нам с мамой отдельное жилье. Это была не отапливаемая мансарда. Еле теплым был стояк от печи на первом этаже на первом этаже. Больших унижений, чем в эвакуации, я не испытывала никогда. Нас ненавидели, называли «выковыренные» - искаженное «эвакуированные». Иногда печь внизу не топили, и мы страдали от холода и сырости. Ни до одного металлического предмета в комнате нельзя было дотронуться – било током. В школу я ходила за три километра – туда определили всех ленинградцев, и училась я в третью смену. Каждый день я ходила за постными щами, которые раздавали бесплатно. В школе давали по кусочку черного хлеба. Мама пошла работать в сапожную мастерскую, а сначала – культработником (но за это давали служебную карточку), потом стала закройщицей – это уже была рабочая карточка. Меня перестали бить мальчишки – они узнали, что я – дочь тети Жени. Окончила 2-ой класс школы, отучившись в ней меньше месяца. Почти всю войну не было писчей бумаги, естественно и тетрадок у нас не было. Писали между строк на газетных листах, или в каких-то старых книгах. Учебники давали по одному, в лучшем случае – по 2 на весь класс. Это была большая редкость – получить хоть на день учебник. Мне этого было достаточно – я с одного раза все запоминала. У меня сохранилась переписка между отцом и мамой. Отец не смог уехать с нами, так как обязан был оставаться в Ленинграде по законам военного времени. Его спас человек, который менял у нас вещи. Он пришел, увидел, что отец умирает, и отвез его в госпиталь для дистрофиков, где отец и выжил. Летом мы с мамой в Тутаеве посадили картошку, это уже было спасением. Мама часто ездила в Ярославль менять наши вещи на продукты. Ярославль часто бомбили, и я очень волновалась за маму – самое страшное было ее потерять. На рубеже 1943 – 1944 года мы переехали в Москву по вызову маминого двоюродного брата, работавшего у Туполева главным инженером. Жили мы сначала у маминой двоюродной сестры, потом снимали угол. Когда приехали в Москву, стали отоваривать карточки в той же булочной, что и моя тетя, архитектор, член союза архитекторов. У нее была лимитная карточка, по которой давали белую булку, поэтому я решила стать - и стала впоследствии - архитектором, поскольку у людей этой профессии всегда бывает работа, а у художников, как у моей мамы, работы всю войну не было. Надо сказать, что много лет после окончания войны я боялась звуков выстрелов, вздрагивала. Боялась, что будет опять война, и постаралась как можно быстрее вступить в Союз Архитекторов, так как это была возможность получить лимитную карточку… …В Москве в школу меня взяли, когда я сдала экзамен: надо было выучить таблицу умножения и гимн Советского Союза. Школа была ужасная – некоторые девчонки хулиганили и избивали учительницу. Я же еще в Тутаеве научилась драться и меня не трогали. В Москве я наконец дорвалась до книг. В Тутаеве в библиотеке давали по две тоненькие книжечки, которые я «проглатывала», а больше было трудно получить. Еще в блокадном Ленинграде я научилась читать «про себя». В Москве же я начала рисовать. Рисовали мы с подругами рыцарей-героев романов Вальтера Скотта, вырезали их и в них играли. Победу мы встретили в Москве. Я – на Арбатской площади, мама – на Красной. Вернулись в Ленинград. Квартира сохранилась, так как папа ее время от времени посещал. Всех немцев из нашего дома выселили (в 24 часа их отселили), считали, что они предатели. Кого-то, помню, арестовали в начале 1942 года. В школу я пошла в восьмилетнюю недалеко от дома, затем перешла в десятилетку – в 21 школу. Окончила ее с золотой медалью. До сих пор встречаюсь с одноклассниками и по просьбе дочери одной из них и пишу эти строки. 2010 г.
Странички дневника Гали Голотиной– (12 лет) Записи, сделанные в деревне Альведено (под Казанью, во время эвакуации из Ленинграда), приведены с незначительной правкой и небольшими сокращениями.
4.II.44 г. С сегодняшнего дня решила начать писать дневник. В школе было военное дело. Каталась на лыжах с гор. Вся вывалялась и домой пришла вся мокрая, да не одна, а со всеми. Было очень интересно. Начинает дуть ветер. Как бы завтра не было бурана. Читаю роман Станюковича «Первые шаги». Книга ничего – интересная: все про карьеру, да карьеристов. 5. II.1944 Сильный буран. В школу не пошла. Сижу все время дома: вышиваю маме рубашку и читаю. Очень скучно. Хочется куда-нибудь сходить, да буран мешает. Пилили дрова, очень устали. К вечеру буран затих, и окна в избе сразу оттаяли. Сейчас поели картошки и попьем чаю (с лепешками из картошек), да ляжем спать. Вот и весь день! 6.II.1944 Буран перестал. Сегодня была хмурая, теплая, сырая погода. С утра вышивала и читала, пока мама ходила на базар. Мне мама принесла с базара материал на платье. После обеда каталась на горе с Анисьей, Дусей и Дарьей. Каталась до темноты. Пришла домой вся мокрая, но веселая. Сегодняшний день пронесся очень быстро. С огромным удовольствием съела огурцы и капусту. Надоела картошка! 7.II.1944 В школе был угар, да такой, что Антонина Ивановна отпустила нас на один час поиграть на улицу. На улице играли в снежки и лазили на елку. Я начинаю метко попадать снежками в цель. Весь день сегодня в школе не закрывала рта – все шептала да смеялась, а случалось и кричать. В школе весь день стоял галдеж. Сегодня на два часа позже пришла домой. Я даже сегодня не вышивала, да и читать пришлось немного. Весь день болит голова.
9. II.1944 Ничего особенного не было. Под вечер каталась на санях. Очень боялась идти домой. 10. II. 1944 Целый день читала книгу. Перед обедом пилили дрова. Очень измучились. 11 II. 1944 В школу сегодня хотя и вышла поздно, не торопилась: как чувствовала, что учиться начнем поздно. Учила нас сегодня Юля. Вот строгий учитель! Если б она нас все время учила, то дисциплина и успеваемость были бы на 5+. Учит очень строго: не шевельнись, ни оборотись, не говори ни слова. Было военное дело, но не интересное: все спрашивали. Только под конец прыгали. Следующее военное дело обещает быть куда интересней. Как домой пришла, поела и – айда на улицу. До темноты каталась на лыжах. Матрена начинает ходить наравне со мной. Остальные все время отстают. Начинает дуть ветер. Как бы завтра не было бурана, а, впрочем, если и будет несильный, то в школу пойду. Потому что дома надоело, а в школе все веселей. 12. II. 1944 В школе полдня учились, а полдня бегали по улице. Дома остаток дня каталась на лыжах. 13. II. 1944 В школу не ходила: воскресенье. До обеда пилила дрова и смотрела на лыжный бег. Я с удовольствием поехала б тоже, но пилила дрова. После обеда читала, вышивала и каталась на лыжах до самого вечера. Вечером варили по обыкновению картошку, дрова сгорели, а картошка не сварилась, совсем сырая. Пришлось дрова накидывать в печку и картошку доваривать.
15. II. 1944 Пишу сегодня на столе, покрытом скатертью, которая застилается только в праздники или когда кого-нибудь ждем. Сегодня два года, как умер дедушка (Михей). В обед – форшмак. С утра читала книгу до обеда. После обеда читала и зашивала платок маме. А, зашив, стала писать дневник. Дома скучно, но сходить некуда. Хочется в школу увидеть весь наш класс. Сегодня Сретенье, дует весь день ветер. Бабушка говорит, что весна будет долгая и холодная. Посмотрим это и проверим: верно или нет. 16. II. 1944 В школу не пошла: не звали. Позавтракавши, вышивала и пошла кататься на горку. Пока суп доваривался, взяла и одела Муське на голову вязаную шапку, завернула в тряпки и пошла гулять. Чего марзя[26] ни выдумает! 17. II. 1944 С утра читала, вышивала и ездила кататься. Рубашку маме вышивать окончила. После обеда вышивала и ездила кататься на лыжах. 18. II. 1944 Пошла в школу, позанимались три часа, потом – военное дело. Нинка сказала военруку, что я хорошо рисую. Вот военрук и дал мне нарисовать двух военных. Провозилась полдня с этими рисунками. Военрук, чтобы я нарисовала, отпустил меня на два урока раньше домой. Вечером привели в дом козу Маньку. 19. II. 1944 Ходила в школу. В школе очень холодно и сильно болит голова. Пилили дрова, но устали не очень сильно. 20. II. 1944 Утром ради воскресенья испекли картофельных котлет - с заварухой тесто. До обеда читала маме книгу. После обеда пришла Дуся, я с ней играла. 21. II. 1944 В школу не пошла. Когда мама ушла в школу, Манька стала котиться. Ой, как страшно! Бабушка стоит, охает, а я чуть не плачу. Вот первый мальчик. Назвали Тимой, а Манька все кричит. Вдруг сразу два. Бабушка смотрит – мальчики, а один – маленький и мертвый. Второго назвали Тапчик. Тимка очень боевой: ни разу не посидит на месте. Тапчик тихий. Еле научили их обоих пить молоко из бутылочки. 22. II. 1944 В школе очень холодно. Сидели в пальто. Сделав уроки, привезла 2 плахи дров, потом пошли за нитками. Вот и весь день. 23. II. 1944 В школе холодно. Написала 3 письма, напилили дров, сходила за огнем и все. 24. II. 1944 Ходила в школу, после попилили. Ходила к Анне за нитками.
26. II. 1944 В школу не ходила – буран. До обеда читала, после обеда терла картошку. 2. III. 1944 За эти дни писать было некогда. Буран, но я иду в школу. В школе холодно. После школы пилили дрова. 3. III. 1944 В школу не пошла: оттепель, да и мама заболела. С утра пилили, потом пошли за водой, потом откидывали снег. После обеда вышивала, читала. 4. III. 1944 С утра чистила картошку, потом читала, попив чай с пряниками, которые мама получила как учительница. Потом делала арифметику и снова читала. Потом вышивала и снова читала.
Вспоминает дочь Галины Андреевны Голотиной – С.Ф. Щукина Здесь приведены странички дневника моей мамы только за один месяц. Именно повторяемость слов «читала», «вышивала», «пилила дрова», «каталась на лыжах» и позволяют понять – словно бы увидеть - будни военной жизни в тылу. Приведенные записи в комментариях не нуждаются. С 1924 года наша семья, прибывшая из города Белого Смоленской области, жила в доме на Тучковом переулке Васильевского острова. С самого начала войны все мужчины нашей семьи ушли на фронт. Женщины трудились в тылу. Дедушка – Андрей Иванович Голотин - ушел на фронт в первый день войны, не разрешив бабушке проводить его («долгие проводы – лишние слезы»). Вернулся живым и невредимым в декабре 1945 года – его часть была передислоцирована на восточную границу. В войну прошел от Мурманска Чехословакию, Польшу, часть Венгрии пиротехником. Был награжден. Сестра дедушки, Голотина Татьяна Ивановна, учительница начальных классов, погибла в Ленинграде 27 января 1942 года. Мама вспоминала, как «тетя Тата», тяжело ступая в башмаках на грубой подошве, доходила до общей кухни в коммунальной квартире, устало опускалась на табурет, ставила на пол рядом с собой стопку перевязанных веревкой учебников и рассказывала о своих учениках. Потом, передохнув, шла в свою комнату. От Татьяны Ивановны в нашей семье хранятся реликвии – том дореволюционного издания стихов А.С.Пушкина и томик «Евгения Онегина». Ее муж – дядя Федор (фамилию не знаю) - погиб на фронте. Детей у них не было. Из Книги Памяти Князь-Владимирского собора позже я узнала и дату смерти Татьяны Ивановны, и место упокоения – Смоленское кладбище. Бабушка моя – Мария Михеевна Голотина - перед войной работала инженером в проектной организации. В первые дни войны пришел приказ об эвакуации детей. Бабушка отправила было девятилетнюю дочь Галину в город Тихвин, откуда детей должны были переправить в районы центральной России. Но бабушке приснился сон, в котором мама погибала – на следующее утро бабушка поехала в Тихвин и вернулась с дочерью в Ленинград. Через несколько дней на Тихвин был совершен массированный налет вражеской авиации, и, действительно, большинство детей, которых должны были вывезти, погибли. Через некоторое время бабушка с моей мамой были эвакуированы под город Казань в деревню Альведено. Бабушка стала учительницей – преподавала в местной школе русский и немецкий языки. Население состояло в основном из крещеных татар - к русским относились хорошо. Приехавших поселили в заброшенном доме. Первую зиму пережили с трудом – козы еще не было, дуло из щелей. Зимой в бураны домик, стоявший на краю деревни, заносило почти до крыши. С трудом по утрам откапывались. Приехавший на короткую побывку отец – Андрей Иванович – зашел в дом и спросил: где Мария Михеевна у своей дочери, не узнав ее – настолько ребенок за год исхудал и изменился. На следующую зиму дом утеплили, как смогли, купили козу. Хотя основной едой оставалась зимой – картошка, а летом варили щи из крапивы, ели лепешки из лебеды, но с молоком все же стало легче. Пешком пришла из города Белого Смоленской области, оккупированного фашистами, бабушкина мама – Ефросиния Васильевна Червякова - после гибели деда Михея Васильевича, отказавшегося сотрудничать с фашистами (до революции он был коннозаводчиком). Дневники мамы, тогда 12-летней девочки, свидетельствуют и о суровых условиях, и о детских неизбывных радостях, и о привычке к труду. Свет веры в семье шел от прабабушек – Евдокии и Ефросинии, прихожанок Князь-Владимирского собора. Впоследствии, когда я родилась – там меня и крестили. Крестной стала моя бабушка – Мария Михеевна Голотина.
Вспоминает Виктор Васильевич Фокин.
О военном детстве
И в каждой семье хранят память о своих героях. И в нашей семье сыновья, внуки, а теперь уже и правнуки хранят память о простом флотском офицере, который внес свой вклад в достижение победы – Василии Андреевиче Фокине. Василий Андреевич Фокин родился в 1907 г. в бедной многодетной крестьянской семье в Архангельской губернии. Его отец был призван в армию и воевал в окопах 1 Мировой войны, поэтому маленький Вася уже с 7 лет пошел работать – помогать бакенщику. Наш дед Андрей вернулся с войны невредимым, но вскоре погиб от английского снаряда прямо около крыльца своего дома. Англичане высадились на севере России, заняли Архангельск и с боями поднимались вверх по Сев. Двине. Их пароходы неожиданно обстреляли деревню из пушек, и дед Андрей был сражен осколком. Уже с 14 лет наш отец работал в лесу наравне со взрослыми. Это его закалило, и он вырос физически очень сильным человеком. В 1928 г. Василий Андреевич был призван на воинскую службу - на Балтфлот. После учебного отряда службу проходил на линкоре «Марат». Здесь, по его рассказам, пришлось встречаться с С. М. Кировым, К. Е. Ворошиловым, С. К. Орджоникидзе другими руководителями СССР. Ворошилов в то время был наркомом ВМФ, и при его прибытии на «Марате» обычно устраивались учения с выходом в море. Экипаж в это время кормили гречкой – любимой кашей Ворошилова. Матросы так и назвали эту кашу «ворошиловкой». Сам нарком любил устраивать соревнования с офицерами линкора в стрельбе из маузера по плавающим бутылкам, и часто был победителем. Готовясь к учениям, матросы загружали уголь, боеприпасы и проч., работали часто сутками. Однажды Ворошилов встретил небритого отца и сделал замечание. Отец ответил, что приводить себя в порядок будет после вахты. Нарком уточнил, чем матросы бреются, и получил ответ, что в парикмахерской линкора, а в продаже бритв нет. Ворошилов приказал принести краснофлотцу Фокину собственную бритву («Золинген»!) и подарил ее. Эта бритва долго хранилась в нашей семье. А на «Марат» была прислана партия безопасных бритв для экипажа. Во время одного из отпусков отец (он остался на сверхсрочной службе) гостил у своего товарища в Ярославской области и там познакомился с нашей будущей мамой. Они вскоре поженились в Ленинграде и прожили вместе более 50 лет. Отец еще в детстве очень хотел учиться, но в деревне закончил всего 4 класса сельской школы. Наверстывать пришлось уже на флотской службе: вечерняя школа, школа младшего комсостава, специальные краткосрочные офицерские курсы во время войны. В самом конце 1942 г. отцу было предложено отправиться на учебу в Военно – политическую академию, но он отказался, т. к. считал, что его долг – быть на фронте, а учеба - в послевоенное время. Перед самой войной Василий Андреевич был политруком и служил в военно – морском училище. К тому времени у него было трое сыновей: Валентин (1932 г.р.), Виктор (1935 г.р.) и Вячеслав (1938 г. р.) Буквально в первые дни войны отец был уже в действующем флоте в должности комиссара канонерской лодки «Кама». Этот небольшой корабль предназначавшийся для действий вблизи береговой линии, срочно переоборудовали из гражданского транспортного судна, на которое поставили артиллерийское вооружение и пулеметы. Во время войны вести дневники категорически запрещали, однако отец делал записи для памяти. По ним он после выхода в отставку восстановил происходившее с большой точностью. Эти записи позволили отцу уточнить некоторые детали боевых действий Балтфлота, приведенные в мемуарах адмиралов Кузнецова и Трибуца. Он написал письма в адрес издательства, получил ответные письма авторов, с которыми был знаком по службе лично. Некоторые из писем сохранились до настоящего времени. Отец очень высоко отзывался об этих адмиралах как талантливых командирах и замечательных людях. В частности, он переживал несправедливость в отношении Н. Г. Кузнецова, честное имя которого было восстановлено совсем недавно, и в честь которого теперь назван авианосный корабль Северного флота. Канлодка «Кама» принимала активное участие в боевой работе Балтфлота уже с августа 1941 года. Особенно тяжелой была операция по эвакуации гарнизона военной базы с п/о Ханко, которая отошла СССР после финской войны. База очень быстро оказалась отрезанной от основных сил. Глубокой осенью 1941 г. в очень холодную штормовую погоду корабли Балтфлота вывезли весь гарнизон базы. Среди других боевых действий «Камы» - поддержка десантов, высадка разведотрядов, огневая поддержка береговых частей, сопровождение транспортов. Очень тяжелые бои были в июле 1942 у острова Лавенсаари, когда корабль участвовал в десантной операции. В день по 8 – 9 раз на канлодку совершали атаки бомбардировщики, приходилось выдерживать бои с миноносцами, сторожевыми кораблями, подводными лодками, катерами врага. Орудия главного калибра перегревались и выходили из строя, так что несколько раз кораблю приходилось выходить из боя. Канлодка с честью выдержала все испытания и выполнила до конца поставленную задачу по поддержке десанта. В экипаже были разные по происхождению, образованию, воспитанию, воинскому опыту люди, и комиссару надо было постоянно работать с ними, чтобы поддерживать боеготовность корабля на высоком уровне. Надо сказать, что наш отец пользовался уважением и любовью всего экипажа. Это видно по письмам, которые даже спустя несколько лет после окончания войны приходили к нему, и из личных встреч с сослуживцами, приходивших навестить отца. Из них особенно запомнились офицеры Дегтев, Карасев, боцман Смирнов, матрос Маричелли (их имена, к сожалению, в памяти не сохранились). В первые месяцы войны было приказано списать с кораблей, конечно же, немцев, а также финнов и военнослужащих других национальностей, соотечественники которых были союзниками Германии. Но матрос Маричелли, итальянец по национальности, нес службу безупречно, поэтому командир и комиссар решили не списывать его с корабля. Маричелли воевал на флоте до конца войны, был награжден несколькими медалями и был очень благодарен отцу. У многих моряков в Ленинграде находились семьи и родственники. Зная о положении Ленинграда, люди переживали за своих близких. Краткосрочные отпуска в Ленинград (корабли базировались в Кронштадте) были запрещены, поэтому при малейшей возможности комиссар отправлял своих матросов и младших командиров в командировки, что бы те могли заскочить к родным и близким и передать хотя бы немного продуктов. Зимой 1941 – 42 г., когда корабли Балтфлота находились на своей базе в Кронштадте, к морякам стали приходить голодающие дети, которых моряки подкармливали. У каждого корабля был «свой» ребенок. На канлодку «Кама» приходил мальчик Толя, мать которого умерла от голода. Толю кормили и давали немного еды с собой. Когда весной «Кама» ушла в Финский залив для боевых операций, а затем вернулась, Толя к пирсу уже не пришел, и дальнейшая судьба его осталась неизвестной. Надо напомнить, что командиры и комиссары Красной Армии и Флота в первой половине войны имели одинаковые права и обязанности, так что комиссару Фокину приходилось делить с командирами всю ответственность за состояние экипажа и боеготовность корабля. В январе 1942 г. канлодка была поставлена в док для ремонта. В записях отмечено, что отец каждый день бывал в доке, контролировал ход ремонтных работ. В записях этого времени он ежедневно отмечал, сколько израсходовано каменного угля, который был в большом дефиците. Так, 1 января 42 г. карандашом помечено «Уголь 76,85», а уже 10 февраля «Уголь 11,7». Отец очень ценил своих командиров. Из них нам особенно запомнились фамилии Дорохова, Дегтева и Карасева. Некоторые командиры погибли, другие убыли по ранению. Отец во время боя всегда находился рядом с ними на мостике. В одном из боевых походов корабль атаковала группа немецких бомбардировщиков, и в результате прямых попаданий он получил повреждения. Командир был убит, а отец получил тяжелую контузию. Однако он остался на мостике, продолжал командировать канлодкой и привел ее в Кронштадт, на базу. В госпиталь идти отказался. Последствия контузии сказывались вплоть до самой смерти отца. Зимой 1942/43 г.г., когда действия флота были скованы льдом, отца направили на курсы офицерского состава, после чего он продолжил службу на крейсере «М. Горький». Канлодка «Кама» погибла летом 1943 г. в результате атаки большой группы немецких бомбардировщиков. Отличная выучка и помощь других кораблей помогла экипажу, только машинная команда погибла, когда одна бомба взорвалась внутри корабля. Об этом отцу позднее рассказали уцелевшие члены экипажа. Все же вследствие контузии отец был признан негодным к службе на кораблях и списан на берег в самом конце 1944 г. Он продолжал службу до 1953 г., когда ушел в отставку по состоянию здоровья в возрасте 46 лет (сказалась тяжелая контузия) в звании подполковника. Многими наградами отец не был отмечен, и этому причина – его принципиальность и прямота. Осенью 1941 г. командирования шхерного отряда пыталось получить продовольствие с «Камы», хотя в то время экипаж уже получал блокадную норму. Отец в категорической форме отказал. Еще конфликт произошел чуть ранее, тоже в 1941 г. Корабль прикрывал в шхерах Финского залива отход наших береговых частей, задание выполнил, но приказа на отход не получил. Случайно от проходившего мимо катера узнали, что наши отступили. Только когда с берега стала бить прямой наводкой артиллерия врага, командир и комиссар приняли решение об отходе. По прибытии корабля на базу командирования шхерного отряда, пытаясь скрыть свою ошибку, оно хотело привлечь командира и комиссара «Камы» к ответственности за оставление боевой позиции без приказа. Однако сделали это с опозданием, рапорт «Камы» о походе был уже в вышестоящем штабе, и там разобрались по справедливости. Глубокой осенью 42 г., после гибели командира комиссар Фокин несколько суток, практически не покидая мостика, выводил поврежденную канлодку в Кронштадт. Однако при награждении даже всего экипажа корабля в списке награжденных комиссар Фокин оказывался редко, зато непременно отмечались работники штаба. Отец очень гордился своей солдатской медалью «За отвагу», которую заслужил еще в 41–ом. Тогда награждали не часто. Сохранилась тетрадь с черновиками представлений к наградам членов экипажа «Кама» осенью 41 г. И почти на каждом карандашная пометка «Не награжден». Вообще же отец был награжден орденом Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны и медалями. После выхода в отставку Василий Андреевич лето обычно проводил в родных местах, на Сев. Двине. Там он оживал, потихоньку занимался плотницким делом, рыбалкой. Зато по возвращении в Ленинград самочувствие его резко ухудшилось, и несколько зимних месяцев он не мог вставить с постели. Умер отец уже в преклонном возрасте – 82 лет. Приводя воспоминание об отце, хотим еще раз отметить, что он был простым человеком, который своим трудом, стремлением учиться, добросовестной службой заслужил офицерское звание, честно выполнял свой долг в военные годы. Отец мог с полным правом сказать: «честь имею». Он никогда не хвалился своими заслугами, а просто в рассказах вспоминал боевые будни, зато о боевых товарищах всегда отзывался очень хорошо, при встречах бывал очень гостеприимен, радовался, вспоминая живых, и горевал о погибших и умерших. В последние годы жизни отец редко открывал альбом с фотографиями военных лет – ему было тяжело смотреть на лица друзей, которых уже почти никого не осталось в живых. В записях отца есть страницы о высадке разведгруппы, которой командировал его друг М. Михейкин. Отец очень переживал, что дальнейшая судьба разведгруппы неизвестна. Только спустя лет 20 после войны мы узнали, что катер был послан за разведчиками, но на берегу, в месте выхода группы был бой. Стрельба продолжалась почти всю ночь, группа на катер не вышла. О бое на берегу во время войны отец еще не знал. Он много лет дружил потом с братом Михаила, тоже военным моряком. А с сыновьями Семена Сергеевича Михейкина мы поддерживаем дружеские связи до сих пор. В отце до конца его дней не угасало стремление помогать людям – родным, близким, знакомым, соседям. Василий Андреевич был замечательным мужем и отцом. Мы никогда не видели семейных ссор или размолвок. Он всегда помогал маме, был мастером на все руки. Много читал, особенно любил военные мемуары. Никогда не давил на нас, своих сыновей, отцовским авторитетом, всегда уважал наши мнения и интересы. Мы все получили высшее образование. Старший, Валентин, стал офицером, вышел в запас в звании подполковника. К сожалению, его уже нет с нами. Виктор стал кандидатом наук, продолжает работать преподавателем в вузе. Вячеслав много лет трудился на горнорудном комбинате в г. Апатиты, а по возвращении в Санкт – Петербург стал преподавать в ПТУ.
Мы воспроизводим несколько страниц из дневниковых заметок Василия Андреевича Фокина в виде копий, а также содержание некоторых записей (с соблюдением орфографии). Следует отменить, что за долгие годы выцвели чернила, бумага в тетрадях пожелтела, а некоторые заметки выполнены карандашом. Отдельно выделяем записи, которые в тетради отмечены как «Личные переживания». Эти записи - попытки оправдаться, когда за тобой нет вины, обида на несправедливость и тревога за судьбу семьи. Приводим также некоторые записи о пребывании в Ленинграде в марте 42–го. Нас в Ленинграде в это время уже не было. 23/III 1800. Убыл на совещание в Ленинград проводимое начальником Главного Политуправления ВМФ ген полк. Роговым. 24) Посетил семью к/ф Казакова, ходил устраивать жену на работу. Был в райсовете – достать для семьи Казакова дров. (Эти записи без правок – так в дневнике). И далее – 25, 26, 27, 28 марта – снова в свободное время комиссар ходил к семьям своих бойцов, пытаясь помочь им. Трамваи не ходили, и истощенный отец сам с трудом преодолевал больше расстояния по городу. После записи от 28/III мелким почерком заполнены 2 с лишним страницы о тех переживаниях и страданиях, которые выпали ленинградцам: о голоде, смертях, пожарах, обстрелах и бомбежках. И - гордость за их героические дела. Читая дневники, удивляешься объему работы, которую проводил комиссар: забота о каждом члене экипажа, постоянное поддержание боевой готовности всех боевых частей корабля, слаженной работы всех технических служб, пищеблока, проверка хода ремонта, контроль за несением вахты в любое время суток. Он был патриотом и беззаветно служил Родине. Василий Андреевич был принципиален, не терпел фальши и лжи других и был предельно честен сам. Это помогало ему в комиссарской службе с подчиненными, но часто мешало во взаимоотношениях с начальством. Жизненная школа сделала его настоящим флотским офицером. Отец и сегодня для нас – Человек - пример и образец для подражания.
В памяти о военных годах множество имен и событий. Но из детских воспоминаний, наиболее глубоко врезавшимися и оставившими след и по сей день в душе, можно, пожалуй, выделить следующие. В эвакуации мы оказались в Ярославской области. Мой старший брат Валентин продолжил учиться в сельской школе. Летом 42 г. школьников просили помочь в прополке совхозных посевов. С братом пошел и я (мне не было и 7 лет). Работали примерно с 9 до 15, затем нас привели в столовую и каждому выдали обед: очень жидкий овощной суп и немного вареной картошки со следами растительного масла и долькой свежего огурца. Хлеба не было. С огромной гордостью мы несли эту еду домой, где нас ждал младший брат. Мы были страшно голодными, но все приносили домой. Такое счастье продолжалось всего несколько дней. Но запомнилось – ведь это была еда! Другое воспоминание касается зимы 43/44 годов. Я ходил в первый класс деревенской школы. Сохранилось письмо, где отец поздравлял меня с этим событием, давал свои добрые напутствия. Письмо датировано концом ноября 1943, когда корабль вернулся из похода. Однажды утром школьникам сказали, что занятий не будет, и мы увидели, как из школы выводили детей, эвакуированных из Ленинграда, и рассаживали в запряженные сани. Оказалось, поезд на станцию пришел поздно вечером, дальше ребятишек по морозу в детский дом не повезли и разместили на ночь в школьных классах. Не все из них пережили эту ночь, и на глазах деревенских ребят в другие сани позднее стали грузить умерших детей. Я до сих пор вижу эту потрясшую меня картину – мертвые детские тела в санках. Так сельские жители воочию увидели трагедию Ленинграда. Мы вернулись из эвакуации в январе 1945г., когда война еще не закончилась. До войны мы жили в маленьком доме с двумя двориками (дом 19, 6 линия) Всего квартир 18 – 20, детей было человек 12. Мы все играли вместе, дружили, нас даже в кино взрослые водили всех сразу. А осталось в живых те, кто был вывезен из осажденного города – всего четверо! День Победы 9 Мая выдался очень теплым, солнечным. Все ленинградцы высыпали на улицу, поздравляли друг друга, многие плакали. Позднее в Ленинграде, как и в Москве, состоялся парад победителей. Отец в те сутки был дежурным офицером и взял нас, детей, с собой, так что мы видели этот парад практически с того же места, с которого сделана фотография.
Вспоминает Вячеслав Васильевич Фокин
О военном детстве
По характеру Валентин близок к отцу. Меня Валя любил и опекал, очень обо мне заботился. Иногда хлебные срезки он отдавал мне. Однажды летом 1943 года Валя дал мне увесистый подзатыльник и отругал за то, что я ел траву. Как я тогда считал, это была съедобная трава – заячья капуста, но это была не она. В другой раз как-то весной 1943 года я увидел в воде лягушачью икру. Пришел в восторг и решил ее собрать, чтобы отнести домой для еды. Правда, мне вовремя объяснили, что из этой очень крупной икры выводятся лягушки. Помню ужин: несколько ложек пустых щей (вода, немного капусты и картошки) и три махоньких вареных картофелинки. Ужин при свете лучины (тонко нащепленные деревянные пластинки). С голодухи я был головастиком: голова на тощеньком тельце. Даже еще после войны я проползал там, где проходила голова в отверстие, вырезанное внизу дверей для кошки и куриц. Между братьями разница в возрасте 3 года и один месяц. Валентин родился 30 сентября 30 сентября 32 года, Виктор – 1 ноября 35 года и Вячеслав – 28 ноября 38 года. В детстве меня дразнили «вяча-кляча»: я не мог бегать. А когда пошел в школу, то одно время был освобожден от физкультуры. Зимой было плохо: нет обуви. И я сижу дома. Пробегусь по снегу босиком – и не печку отогреваться. Старший брат снабдит меня обувкой и ненадолго выпустит погулять. Осенью ходили по полям после уборки урожая картошки и искали: а вдруг повезет и найдем картофелину. Что-то и найдешь. Тогда все, кто искал, разводят костер и пекут в золе картошку. Во время войны и после войны сушили овощи: картошку, лук. Морковь, лук и т.д. В колхозе был домик, в котором сушили картошку. Там зимой работала моя бабушка. Я и еще 2-3 ребятишек зашли в домик и нам дали по вареной картофелине. А в домике-то теплынь-жара. Мы даже разомлели. Но тут пришла какая-то начальница и выгнала нас. Но не судите ее строго: она поддерживала дисциплину. Если не выгнать нас сегодня, то завтра там будет целая толпа. В конце 43 года к нам приехал отец, и я не узнал его, поэтому встретил равнодушно и на его вопрос ответил, где мама. Помню только, что отец был в военной форме и при себе имел наган. Вот из этого нагана мы стреляли в овраге по фанерке или картонке, на которой был нарисован гитлеровец. Отец помогал мне держать наган. Я сам прицелился, нажал на курок с помощью отца, и – к своей обиде – промазал, хотя и тщательно осмотрел мишень. Во время войны мы жили у бабушки в деревне в двух километрах от станции Волга, неподалеку от Рыбинска. Около станции был мост через Волгу и военная база боеприпасов. Мост имел стратегическое значение, и немцы пытались уничтожить его. С обоих берегов Волги были укрепления на случай высадки десанта или диверсантов: окопы, ходы сообщения и бронеколпаки (миниатюрные доты с пулеметами). Кроме того, по обоим берегам стояли зенитные батареи, и был полевой аэродром для истребителей. Когда прилетал самолет, то его встречали истребители и пытались посадить на аэродром. А если пилот был непонятливым, то самолет сбивали. Помнится, был сбит английский самолет, а также подбиты самолеты с нашими красными звездами. Немцы посылали истребителей, чтобы разведать расположение аэродрома, прожекторов и зенитных батарей и систему охраны моста. Прилетали днем. Истребители их отгоняли, но при этом определенную зону наши самолеты не покидали. Однажды немец разозлился, что его не пустили к мосту, снизился до бреющего полета, полетел вдоль дороги и стал стрелять из пулеметов по детям и женщинам, которые попадались на дороге. Меня старший брат сразу загнал в дом. А наша соседка – тетя Ириша присела прямо на дороге и закрылась пустой корзинкой, которую несла, и отделалась легким испугом. Немцы пытались бомбить ночью с большой высоты, но безуспешно. В один из налетов бомбы падали около деревни в Волгу. Нас спас высокий берег, который прикрыл деревню от взрывной волны. Однажды ночью проснулись от того, что немцы бомбили авиационный завод в Рыбинске. Зрелище было запоминающимся: в небе лучи прожекторов, трассы от снарядов, подвешенные немцами на парашютах какие-то осветительные устройства - бомбы или ракеты. А однажды летом наши подбили самолет-разведчик. Он полетел от моста на небольшой высоте и задымил над нашей деревней. Мы (группа мальчишек 4-7 лет) закричали: «Ура!», схватили палки и побежали следом за самолетом: брать в плен гада-гитлеровца. Но нам не повезло: по дороге нас обогнал грузовик-полуторка с вооруженными солдатами с базы. Но не повезло и солдатам: самолет улетел очень далеко, куда машине было не проехать из-за леса, ручьев и болот. В Ленинград мы вернулись зимой 44-45 года. Снежной зимой. Но дороги расчищены. Расчищены пешеходные дорожки на тротуарах и на бульваре 6 и 7 линии Васильевского острова. На помойке у нашего дома чище, чем сейчас на улицах в центральной части Санкт-Петербурга. С наступлением темноты по городу ходят трамваи, в салонах которых горят синие лампочки. И фары трамваев и автомобилей светят синим. В домах стекла окон заклеены бумажными полосками. С наступлением темноты, перед тем как зажечь свет, окна закрывают шторами из очень плотной, крепкой и толстой черной бумаги. В подъездах горели синие лампочки. Из-за нехватки бензина грузовики были газогенераторными. За каждой кабиной располагались круглые цилиндрические печки, в которые загружали маленькие деревянные чурки. В печках из чурок вырабатывался горючий газ, на котором и работал мотор. Запас чурок лежал в кузове. Трамваи были двух типов: комфортабельные «американки», в которых двери автоматически открывались водителем и обычные, у которых с площадки был выход на обе стороны трамвая. Эти выходы закрывали невысокие металлические решетки. А в салон вагона вела выдвижная дверь.
Салют Победы смотрели со Стрелки Васильевского острова всей семьей. Зенитки стреляли от Петропавловской крепости. Люди плакали, бурно радовались и кричали «Ура!». Потом летом в город вернулись бойцы Ленинградского фронта. Их выгрузили из эшелонов на окраине города. И они маршем, колоннами шли разными маршрутами по городу. Все люди были на улице, приветствовали усталых, запыленных солдат и многие женщины плакали. Я встречал солдат сперва на Большом проспекте около Андреевского храма, а потом перешел на Средний проспект – там, где сейчас станция метро «Василеостровская». Уже после войны я видел, как водили на работу пленных немцев. Они идут колонной по дороге, а сбоку колонны идет сопровождающий их солдат без оружия. Но видел я и то, что меня поразило еще больше. Я видел пленных немцев, одетых в немецкую форму, но без наград и знаков различия. Эти немцы гуляли без всякого сопровождения по Александровскому саду и около Эрмитажа. Их никто не трогал и даже ничего не говорил в их адрес. И это – после страшнейшей блокады!
Вячеслав Васильевич Фокин 2000 – е годы.
В 1946 году я пошел в школу и попал в класс к учительнице, у которой учились оба моих брата. Это была Нина Ивановна Кудряшова. Я готов про нее написать совершенно отдельно. Она очень любила нас всех, а нас было 40 человек в классе, в подавляющем большинстве – сироты. А мы любили ее и были на седьмом небе от счастья и гордости, когда ее наградили медалью за трудовое отличие. Таким людям надо ставить памятники.
Вспоминает Анастасия Михайловна Фокина (99 лет)
Вспоминает Анастасия Михайловна Фокина.
В эвакуации
Часто была слышна стрельба. Самолеты летали, иногда – очень низко. А на Пасху в 1942 году произошло следующее. Через Волгу было два моста – связь с Москвой, с Уралом. Первый мост – маленький, старенький, как червячок. А второй большой, крупный. Его построили только перед войной – в войну заканчивали. На Пасху немцы хотели новый мост разбомбить. А погода стояла хорошая, теплая, солнечная. Перед Пасхой в Великий четверг – мы еще спали - самолеты летели низко-низко: неприятно было. В четверг великовецкий наши что-то прозевали, пропустили несколько самолетов немецких. Пролетели они над деревней Ильинское и начали бомбить. Налетели, но им, хоть они и совсем близко были у Волги, не дали мост разбомбить. И пришлось им сбросить бомбы ниже моста - все гудело. Земля зашаталась – такие были бомбы. На Волге еще лед был, который всю зиму мерз. Бомбы разбомбили лед – и столько рыбы наглушили! И на базаре к Пасхе столько рыбы было! Быстро всю распродали. Рядом с железной дорогой были небольшие домики. Поезда шли дальше – на Куйбышев. Они останавливались на остановке у этих домиков. По этой дороге везли много детей эвакуированных. А вдоль железной дороги немцы летали к Волге. Однажды немцы эту станцию разбомбили и поезд с детьми – столько детей погибло! Нечетно! И не считали ведь – сколько… Победу мы уже в Ленинграде встретили с детьми. Погода была хорошая. У нас на шестой линии большая комната была. Все друзья к нам пришли – гостей много было. 2010 г.
Сведения об авторах - победителях
Галина Андреевна Голотина (1932 – 2006) – профессор, доцент каф литературы МГПИ. Анна Петровна Голиус (1894 – 1972)– врач окулистВасилеостровского района города Ленинграда. Галина Ивановна Голиус (1932 г.р.) врач-бактериолог в лаборатории Института Акушерства и Гинекологии им. Д.О.Отта. Виктор Андреевич Лушин (1932 г.р.) – многие годы - ведущий инженер проектов в Государственном оптическом институте, ныне – пенсионер. Василеостровского р-на 1949 г. Инна Викторовна Нельсон (ур. Твелькмейер) (1932 г.р.) – кандидат физико-математических наук, ныне – пенсионер. Наталья Сергеена Рахманина (1932 г.р.) – художник, архитектор, журналист, член Союза архитекторов, член Союза Художников. Внучка составителя первого наиболее полного жизнеописания (изданного еще в самом начале XX века) святой блаженной Ксении Петербургской священника Смоленского кладбища в Петербурге Евгения Рахманина (1860–1927). Ирина Владимировна Столярова (1932 г.р.) - проф. СПбГУ, редактор ныне издающегося полного собрания сочинений Н.С.Лескова. Анастасия Михайловна Фокина (1912 г.р.) – супруга Василия Андреевича Фокина - – в 2011 году исполнилось 99 лет. Уроженка Ярославской области, верная жена и любящая мать троих сыновей. Василий Андреевич Фокин (1907 – 1989) – старший политрук комиссар канонерской лодки «Кама». Награды – «Орден боевого Красного Знамени», «Орден Отечественной войны II степени», «Орден Красной Звезды», медаль «За отвагу» и другие медали. Анастасия Михайловна Фокина (1912 г.р.)– швея, во время войны работала в колхозе счетоводом. В 2011 году ей исполнилось 99 лет. Уроженка Ярославской области, верная жена и любящая мать троих сыновей. Виктор Васильевич Фокин (1935 г.р.) - кандидат химических наук, доцент СПб Государственного Инженерно-Экономического Университета. Вячеслав Васильевич Фокин (1938 г.р.) - в течение 34 лет (1968-2002г.г.) конструктор-механик центрального рудника (плато РАСВУМЧОРР) ПО «Аппатит», ныне преподаватель спецтехнологий в ПТУ №107 г. Санкт-Петербурга. [1] В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3,1882, с. 14 [2] Памятник М.И.Кутузову: архитектор Б.И.Орловский, отлит В.П.Екимовым. [3] Данные за 2008 г. (АиФ № 5, с. 5) [4] Там же. Ст. Е.Данилевич «Будни подвига», с. 19 [5] Там же. с 19 [6] Вспоминает В.А.Лушин: «Как-то быстро подступил голод. Школы закрывались одна за другой, потому что учеников становилось всё меньше. А ходили в школу, в основном, из-за того, что там давали тарелку супа. За тот блокадный год я поучился в 6-7 школах. Помню переклички перед занятиями, на каждой из которых привычно звучало: умер.. умер…». [7] Вспоминает Инна Викторовна Твелькмейер: «В кино мы ходили в кинотеатр Форум на 7-ой линии Васильевского острова (теперь на его месте построили большой элитный дом). Тогда в первый раз мы посмотрели прекрасный фильм «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье». [8] О дневниках Тани Савичевой, ее семье см. подборку статей В.Л.Бианки в «Учительской газете» за 1984 г. [9] А.М.Адаиович, Д.А.Гранин Блокадная книга. М., Советский писатель, 1982, с. 203 [10] О.Берггольц «Говорит Ленинград» .Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство. 1946 [11] Вячеслав Васильевич Фокин: «Салют Победы смотрели со Стрелки Васильевского острова всей семьей. Зенитки стреляли от Петропавловской крепости. Люди плакали, бурно радовались и кричали «Ура!». Потом летом в город вернулись бойцы Ленинградского фронта. Их выгрузили из эшелонов на окраине города. И они маршем, колоннами шли разными маршрутами по городу. Все люди были на улице, приветствовали усталых, запыленных солдат, и многие женщины плакали».
[12] Н.Г.Горбачева-Глазер. «Повесть о блокадной девочке». СПб. 2007. [13] Испытание. Воспоминания настоятеля и прихожан Князь-Владимирского собора в Санкт-Петербурге о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. СПб, Князь-Владимирский собор. 2010 [14] Журнал «Наука и образование» Воспоминания. «Василеостровцы: братья и сестры». Подборка С.Ф.Щукиной. Издание МГПУ (Мурманск). № 11, 2010, стр. 263-272 [15] Приведем здесь возможную последовательность обращения учеников к строкам недавно написанных – в 2010 году – мемуаров «Василеостровцы: братья и сестры». [16] Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М. Русский язык медиа. 2007. С. 47 [17] Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. М. Институт русской цивилизации 2011. С.41 - 42 [18] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. 1882. С. 139 [19] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. 2003. М. АСТ. С.621 [20] Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М. Русский язык медиа. 2007. С. 162 [21] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. 1882. С. 139 [22] Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству. М. Институт русской цивилизации 2011. С. 31 [23] Имя Филиппа Исааковича Каневского, подполковника медицинской службы, начальника госпиталя Военно-транспортной академии можно обнаружить в Интернете, но фотографии - нет. [24] Из воспоминаний А.А. Белогруд: «Стены Академии притягивали, как родной дом, сюда добирались из последних сил и, если дорога отнимала все силы, здесь умирали. Когда Виктора Федоровича Твелькмейера назначили директором Академии, он предпринял все возможное для сохранения жизни людей. Почти все оставшиеся в городе переехали в здание Академии – так экономились силы и исключалась опасность быть убитым в пути. По инициативе Виктора Федоровича сотрудники разбили огород в Круглом саду. Разобрали старую отмостку, очистили землю от наслоений битых скульптур и камня. Огородную землю тачками возили из Соловьевского сада. Получили из совхоза ростки картофеля. Перед сбором урожая все очень волновались. Я думала: была бы у меня картошка, подсунула бы каждому под куст». Тревога оказалась напрасной – урожай собрали замечательный. Виктор Федорович был нашим добрым волшебником. С тех пор, как он принял на себя руководство, и до конца войны в Академии не умер ни один человек. (Из книги «Подвиг века». Ленинград. 1968., стр. 319) [25] Ирина Владимировна жила во время войны, и теперь приезжает летом в в деревню Опальнево. [26] Так татары называли русских. Поделиться: |